Гуманитарные науки Подразделы категории "Гордон": Витгенштейн и современная философия
Расшифровка передачиАлександр Гордон. Почему Витгенштейн? Человек, написавший одну книгу. Вадим Руднев. Ну, книги на самом деле всё-таки две. И Витгенштейн умер в 51-м году, а книг издаётся всё больше и больше. Витгенштейн, я думаю, вот почему: Витгенштейн интересен не столько своими книгами, а сколько та- ким парадоксальным сочетанием действительно со- вершенно фантастического интеллекта – очень остро- го, яркого – и совершенно фантастической экзистен- циальной жизненной позиции. Я расскажу только один случай. Когда он контактировал с Венским логическим кружком, о котором у нас пойдёт речь, у него был друг Фридрих Вайсманн, один из молодых членов Венско- го кружка, который очень защищал его идеи и подгото- вил книгу, которая называлась как-то вроде «Основы лингвистической философии». И Витгенштейн сказал, что нет, её уже нельзя издавать, она уже устарела. Но тот время от времени к нему всё-таки приставал и го- ворил: нет, давай издадим, давай издадим, и когда он в очередной раз пристал к Витгенштейну и сказал: мо- жет быть, всё-таки издадим? Витгенштейн подумал и сказал: «Публикуй. Но тогда я покончу собой». И че- ловек не издал книгу, он понял, что действительно так и будет, потому что с этим человеком шутки плохи, он всегда говорил правду. И если он сказал, что он покон- чит собой, то так оно и будет. И вот на этой очень странной для 20 века гра- нице между интеллектуализмом и соответствующей ему жизненной практикой и строится феномен Витген- штейна. Я не знаю, Олег, согласишься ли ты со мной или нет, но если для понимания текстов Хайдеггера, в общем, совершенно не важно знать, что он сотруд- ничал с нацистами, то, как мне кажется, читать «Ло- гико-философский трактат» или же «Философские ис- следования» и при этом не знать биографию Витген- штейна – это просто невозможно. Олег Аронсон. Нет, возможно. Мне кажется, что воз- можно. И мне кажется, что традиция, которая следу- ет за Витгенштейном, – прежде всего, лингвистическая философия, аналитическая философия, – как раз по- пытались прочесть Витгенштейна без его жизни. Вадим Руднев. Ну, возможно, это так. Но для меня Витгенштейн ценен именно таким сочетанием эгзистенциальности и интеллектуализма. Олег Аронсон. Хорошо, тогда я, может быть, просто продолжу. Мне кажется, что как раз в современной философии создалась такая странная ситуация, когда есть, с од- ной стороны, очень распространённая и сейчас очень сильная традиция аналитической философии (Витген- штейн – это один из её столпов, хотя к нему очень раз- ное отношение внутри самой этой традиции). С другой стороны, есть много разных философий помимо этой. Есть французская философия… Вадим Руднев. А ты считаешь, – извини, пожалуйста, что пере- биваю, – что сейчас есть какая-то аналитическая фи- лософия, постаналитическая, вернее? Она вообще су- ществует в природе сейчас? Олег Аронсон. Ну конечно. Вадим Руднев. А какие имена, например? Олег Аронсон. Это неважно, практически весь американский прагматизм – это постаналитика. Вадим Руднев. То есть, Рорти. Олег Аронсон. И Рорти в том числе. Но не только. У неё очень много разных представителей. Более того, она занима- ет в силу своей прагматической направленности, всё более и более устойчивое положение, в том числе и в Европе, и в Германии, где были сильны традиции фе- номенологии. А ведь это островная традиция, англий- ская традиция в большей степени. Вадим Руднев. Извини, пожалуйста, опять перебиваю. Рорти, скажем… Речь идёт о современном философе Ричар- де Рорти, авторе нашумевшей книги «Философия как зеркало» чего-то там… Олег Аронсон. Природы. Вадим Руднев. И вот для него как раз, мне кажется, тоже важно такое сочетание интеллектуальности и экзистенциаль- ности, понятой в неком символистическом смысле. То есть он всё время, например, говорит о «приватизации мысли», да? Олег Аронсон. Ну да. Но я даже не имею в виду Рорти, пото- му что Рорти – это такое странное пересечение разных традиций. Вадим Руднев. Да. Да. Странное пересечение разных тради- ций. Олег Аронсон. Он использует и Хайдеггера, и Дерида, и Вит- генштейна и пытается работать с языками разных фи- лософий, пытаясь, фактически, показать, что язык фи- лософии, в общем-то, не имеет значения, а есть неко- торая прагматика самой мысли. И их можно каким-то образом даже унифицировать – сопоставлять, сопола- гать и так далее. Но я вернусь к тому, о чём раньше сказал, потому что я, в общем-то, согласен с твоим тезисом. И для меня тоже Витгенштейн без его жизни – это непредставимое явление. И тем не менее, это непредставимое явление стало базовым для аналитической традиции. Но надо хотя бы как-то её охарактеризовать – эта философия сводится, фактически, к тому, что анализируется язык, на котором произносится то или иное утверждение и, собственно, это является предметом данной филосо- фии. Вадим Руднев. То есть, другими словами, если философия в традиционном смысле рассматривает вопросы со- отношения бытия и сознания, вопросы этики, вопро- сы метафизики, то то, что мы называем «аналитиче- ской философией», отбрасывает вот эти проблемы как псевдопроблемы, как то, что они называли «misusing», то есть злоупотребление языком. И, в сущности, про- блема только одна в раннем логическом позитивизме – как построить идеальный язык, а в позднем логи- ческом позитивизме, который называется «аналитиче- ской философией», – как, собственно говоря, различ- ные выражения используются в языке. То есть един- ственным инструментом философии является челове- ческий язык. Александр Гордон. По идее, тут должна была тогда возникнуть бо- гатая афористика – при таком отношении к языку. Вадим Руднев. Нет! Вы знаете, нет. Как раз аналитическая философия характеризуется совершённым, намерен- ным, полным отсутствием терминологии, она изъяс- няется полностью на обыденном языке, и она просто не хочет знать совершенно никакой терминологии в любом значении понятия «терминология». Ранний ло- гический позитивизм всё-таки ещё применял какие-то термины, вроде «верификационизм» или «фальсифи- кационизм» у Поппера, а поздняя аналитическая фи- лософия, недаром её второе название «философия обыденного языка», она просто анализирует обыден- ный язык, анализирует, как слова используются в обы- денном языке. Александр Гордон. Возвращаясь к Витгенштейну, в чём же всё-таки это слияние образа мысли с образом жизни? То есть, это сократовское отношение к жизни? Вадим Руднев. Да, я думаю, что да. Олег Аронсон. Я думаю, что нет. Александр Гордон. Так да или нет? Вадим Руднев. Я думаю, что сократовское, потому что в чём, собственно говоря, состоит «сократовское»? В том, что ничего не писать, а только рассуждать и своей жиз- нью отвечать за своё рассуждение. Как писал Бахтин в своей первой опубликованной работе, которая называ- лась «Искусство и ответственность»: «За то, что я по- нял и пережил в искусстве, я отвечаю всей своей жиз- нью», за то, чтобы понятое и пережитое стало как бы таким верстовым столбом. Я не знаю, почему ты счи- таешь, что несократовское? Олег Аронсон. Я так скажу для начала, что если бы Вит- генштейн ещё был и Сократом нашего времени, его участь была бы совсем печальна. Вадим Руднев. То есть? Олег Аронсон. И так эта фигура драматичная по-своему: это действительно выдающийся философ, очень острого ума, но при этом породивший традицию, которая его самого уничтожила. С другой стороны, философия, как мы её знаем из истории, она развивалась под зна- ком Сократа, такого идеального философа-мудреца, и именно этот образ мудреца претил всегда Витгенштей- ну. Вадим Руднев. Это правда, ему всегда претил образ мудреца, но в то же время он и был этим мудрецом, он действи- тельно своим ученикам просто запрещал заниматься философией. Он говорил, что он по-другому не может, он просто больше ничем заниматься не может, он как бы «больной», а ученикам говорил, «вы идите рабо- тать на завод», или «идите помогайте бедным», и мно- гие из них так и поступали. Например, один стал из- вестным психиатром, другой действительно пошёл на завод, правда, вскоре умер, бедняга. Но давайте к проблеме подойдём по-другому. всё- таки мы сейчас говорим о соотношении жизни и интел- лектуализма, и собственно говоря, что Витгенштейн сделал, в чём его достижения? Существуют, как я счи- таю, три фундаментальных принципа научного знания 20 века. Первое из них сформулировал Курт Гёдель в теореме «О неполноте дедуктивных систем», которая заключается в том, что любая дедуктивная система, то есть логическая система либо не полна, либо противо- речива. Вот нам сейчас пытаются показать Курта Гёделя, но не могут, вот, показали наконец. Олег Аронсон. «О неполноте формальных систем». Вадим Руднев. Да, теорема «О неполноте формальных си- стем», и смысл её в том, что наше мышление богаче его дедуктивных форм, как сформулировал покойный Василий Васильевич Налимов. Второй принцип, который во многом исходит из пер- вого, сформулировал применительно к квантовой фи- зике в её копенгагенской вариации Нильс Бор. Этот принцип известен как «принцип дополнительности», и в своей ортодоксальной трактовке он звучит так, что квантовое явление, квантовую сущность можно аде- кватно описать, только описав её либо как частицу, ли- бо как волну, то есть в дополнительных системах опи- сания. Этот принцип был очень сильно подхвачен всеми, кем только возможно и отчасти немножко опошлен, честно говоря. В частности, Лотман… Правда, это бы- ло давно, и я думаю, что независимо от Бора, пото- му что Лотман был человек совершенно невежествен- ный. Лотман сформулировал примерно тот же самый принцип, который у него звучит так: «Неполнота наше- го знания компенсируется его стереоскопичностью» – примерно то же самое. И, наконец, третий принцип, который применитель- но опять-таки к квантовой физике сформулировал Вер- нер Гейзенберг, великий физик, может быть, даже бо- лее великий, чем Бор, и который опять-таки в его орто- доксальной форме называется «соотношение неопре- делённостей». В соответствии с ним нельзя одновре- менно точно измерить координаты импульса и части- цы, и – если перевести это на более широкий фило- софский язык, что было отчасти, в отличие от Бора, сделано самим Гейзенбергом, – когда мы хотим изме- рить что-то точно в одном, то мы теряем точность в другом. Вот эти три принципа легли в основу фундаменталь- ной научной методологии 20 века. И при этом каждый из них как бы походя и нехотя был сформулировал ещё Витгеншейном в «Логико-философском трактате»… Олег, ты меня перебивай, когда ты захочешь. Александр Гордон. Предвосхитив насколько эти открытия? Вадим Руднев. Ну, лет на 15… Олег Аронсон. Я, честно говоря, просто не согласен с этим. Вадим Руднев. Ради Бога. Олег Аронсон. Я соглашаюсь, что это фундаментальные ве- щи для науки – для естественной науки 20 века – и для математики и физики. Но они ничего не значат по большому счёту для философии 20 века – все эти ве- щи. Хотя, конечно, ты прав в том, что они были подхва- чены на уровне риторики – и принцип дополнительно- сти, и принцип неопределённости особенно – и воспри- няты как некоторые метафоры, где множественность языков просто оправдывалась ссылкой на принцип не- определённости, «который даже в физике есть». Но я хотел бы обратить внимание на некоторую «вилку» между естественными науками и даже уже ме- жду математикой и философией. Философия отделя- ет себя от естественных наук – не всегда, но, по край- ней мере, у Витгенштейна отделяет. У меня к тебе во- прос: где в «Логико-философском трактате» предвос- хищена теорема Гёделя? Потому что на самом деле, когда эта теорема появилась и была очень драматич- но воспринята Гилбертом, для Витгенштейна не было проблем с её пониманием. Он скорее был критиком те- оремы Гёделя. Вадим Руднев. Да, он говорил, что Гёдель говорит там, где нуж- но молчать, но я тебе отвечу… Олег Аронсон. Он не в этом, скорее, критик был, он был критик в том, что нельзя теорему Гёделя экстраполировать в сферы философии или даже в основания математи- ки, она работает только для формально логических си- стем. Вадим Руднев. Но ведь «Логико-философский трактат», соб- ственно говоря, и был такой формально логической системой. Ведь что такое «Логико-философский трак- тат»? Как писал Витгенштейн своему другу Людвигу фон Фикеру, «Логико-философский трактат» состоит из двух частей: первая написана, а вторая не написа- на». И вот в этом, собственно говоря, предвосхищение теоремы о неполноте. В том, что он писал очень жёст- ко, даже в каком-то смысле ещё более жёстко, чем Рассел в «Principia Mathematica» – там каждое предло- жение зарубрицировано, причём, публикация идёт ие- рархическая: «1.1.1», потом «1.1.2» и так далее. При- чём в очень сжатой, конденсированной форме реша- ется глобальнейшая проблема. Но потом он говорит, что «тот, кто меня поймёт, тот отбросит мои предложения, как бессмысленные, пото- му что о чём можно говорить, о том нужно говорить яс- но, а о чём невозможно говорить – о том просто нуж- но молчать». И вот, собственно говоря, это соотноше- ние дедуктивности, которая выплёскивается в такую воронку молчания, это я и называю предвосхищением теоремы Гёделя о неполноте. Олег Аронсон. Это слишком вольно, на мой взгляд, потому что тогда вообще вся венская традиция – это предвосхи- щения теоремы Гёделя. Вадим Руднев. Я так и считаю. Олег Аронсон. Недописанный роман Музиля, Кафка, который хочет, чтобы его произведения Макс Брод сжёг после его смерти. И вообще венская традиция целиком за- циклена на ограниченность языка и на проблему, кото- рая у Витгенштейна, в частности, тоже выявлена в сло- ве «молчание», такая функциональная нагруженность молчания. Вадим Руднев. Хорошо, ты говоришь, что теорема Гёделя ва- лидна в математике и невалидна в философии, но фактически весь пафос философии Венского логиче- ского кружка, членом которого был Гёдель, состоял в том, что философия не нужна вообще, а нужны только естественные науки, и вся работа правильной фило- софии должна состоять в доказательстве ненужности философии. И только в таком контексте могла возник- нуть эта замечательная теорема. Олег Аронсон. Мне кажется, что всё-таки теорема возникла в другом контексте, она возникла в контексте поиска оснований математики, которые всегда… Вадим Руднев. Так они всё время занимались поиском основа- ний математики. Олег Аронсон. Нет, но это всё-таки работы Рассела, Уайтхеда, Гилберта, Фреге прежде всего. Это попытка построе- ний логических основ математики, и идея здесь следу- ющая – логика отделяется от математики, для неё со- здаётся свой язык, и математика вытекает из логики. Вадим Руднев. Это Бертран Рассел… Олег Аронсон. Это Бертран Рассел и Фреге, который таким образом обосновал арифметику. Даётся понятие еди- ницы, разных классов чисел и так далее. И это была важнейшая цель – что по крайней мере математика будет точным знанием, логически непротиворечивым. Приходит Гёдель и изнутри этой самой математики, её методами, на её аксиоматике показывает заложенную в ней противоречивость – это одно из следствий тео- ремы Гёделя, то есть в ней существуют «истинные не- доказуемые высказывания». А что такое «истинные недоказуемые высказыва- ния»? Почему ты их вольно сводишь к «молчанию», к «непроговоренному». Это неправда, это проговорен- ное, но недоказуемое в своей истинности. Вадим Руднев. Проговоренное и недоказуемое или недоказуе- мое и непроговоренное, это уже частности. Для меня важно всегда соотнести несоотносимое, мне кажется, для Витгенштейна тоже. Но вот ты говоришь, что он занимался основаниями математики и апеллируешь к Фреге и Расселу, но от Фреге и Рассела прямой путь к Витгенштейну и к вен- ской традиции. Олег Аронсон. Конечно. Вадим Руднев. Опять-таки – Гёдель решал, действительно, это на материале «Principia Mathematica», но главный принцип венцев – это так называемое «простое про- токольное предложение», которое как бы нужно вери- фицировать. И мне кажется, что теорему о неполноте, среди прочего, нужно рассматривать вот в этом кон- тексте, в котором всё это варилось. Там ведь было как? Ведь конгрессы Венского логического кружка про- ходили таким образом, что там выступали чистые ма- тематики (кстати, две трети из них были чистыми мате- матиками), там были представители Львовско-варшав- ской школы логики, там были психоаналитики, там вы- ступал ученик Фрейда Вильгельм Райх, там выступал Нильс Бор, там выступал Вернер Гейзенберг – это был такой совершенно жуткий интеллектуальный бульон, который длился, собственно, до аншлюса Австрии, до тех пор, пока Гитлер всё это не уничтожил, и предсе- дателя этого кружка просто не убили. Покажите нам Морица Шлика, это был очень достойный человек, его просто убил в 36-ом году студент-нацист у дверей Вен- ского университета. И вот, мне кажется, что теорема Генделя была очень важна как общий подрыв стратегии Венского кружка, стратегии верификационизма, то есть той теории, что есть простые предложения, которые можно проверить простым опытом – а это ведь совершенно не так. Во-первых (в этом они были сходны с Витгеншей- ном), не все предложения, грубо говоря, – повествова- тельные. То есть предполагалось, что все предложе- ния – это предложения типа «дело обстоит так-то и так- то», другие предложения не рассматривались, счита- лось, что их вообще не существует. Но на самом де- ле, в разговорной речи, к которой позже апеллирова- ла аналитическая философия, гораздо больше пред- ложений других реальных наклонений, реальных мо- дальностей – таких как императивы, таких как конъ- юнктивы, таких как вопросы, потом даже была специ- ально создана своя «логика вопросов». И поэтому этот стиль раннего философствования логического позити- визма очень быстро себя исчерпал, потому что – ну, создали мы идеальный язык (они всё время хотели со- здать идеальный язык), ну, хорошо, а дальше что? И мне кажется, что один удар сделал Гёдель, который был членом кружка, а второй удар нанёс Карл Поп- пер, который никогда не был членом кружка, как он го- ворил, его «не приглашали», – я ловлю твой скепти- ческий взгляд, сейчас я дам тебе возможность выска- заться… Поппер выступил с критикой принципа верификаци- онизма, противопоставив ему принцип фальсифика- ционизма: теория не тогда истинна, когда каждое её предложение может быть проверено, а теория тогда истинна, когда каждое предложение может быть под- вергнуто фальсификации. Если предложение не мо- жет быть подвергнуто фальсификации, оно не истин- но, и не ложно, оно бессмысленно. Олег Аронсон. Или оно религиозное – предложение веры. Вадим Руднев. Да, да, конечно. Олег Аронсон. Да, это принцип фальсификации Поппера, но также можно сказать, что по этим традициям и фило- софские исследования Витгенштейна (позже, правда, опубликованные) тоже наносят своеобразный удар – идеей языковых игр. Много ударов по этой традиции было нанесено, но, тем не менее, это очень живая се- годня традиция – не в том смысле, что она развивает- ся, а в том смысле, что она властна в философии. Вадим Руднев. Властна, ты считаешь? Олег Аронсон. Да, она распространена во многих университе- тах… Вадим Руднев. Ты говоришь: распространена во многих уни- верситетах… Но разве философия – это то, что рас- пространено во многих университетах? Как раз Витген- штейн терпеть не мог университетскую философию, для него это просто мертвость была. Олег Аронсон. Хорошо, вернёмся к тому, что такое современ- ная философия, и в чём, собственно… Александр Гордон. Прежде чем вы вернётесь, у меня два вопроса к вам, Вадим. Ваша книга о Витгенштейне называется «Божественный Людвиг». Первый вопрос – почему она называется «Божественный Людвиг», и второй вопрос – как он относился к вере? Вадим Руднев. С удовольствием отвечу на эти два вопроса. «Божественный Людвиг» – это, конечно же, калька из книги Гая Светония Транквилла «Жизнь двенадцати цезарей», где самым главным героям присваивалось имя «божественный» – «божественный Цезарь», «бо- жественный Август» и так далее. И в своё время, ко- гда мы делали журнал «На посту» (это было очень весёлое время, перед дефолтом, Кириенко был пре- мьер-министром), у нас недолгое время работал такой Гриша Амелин, у которого была привычка обо всех го- ворить «божественный»: божественный Немзер, боже- ственный Аронсон, божественный Руднев. Я перенял у него эту традицию, и, не посоветовавшись, назвал Витгенштейна «божественным». Что касается религии, то Витгенштейн был толстов- цем, он был не конфессиональным, формально он был католиком, но он был толстовцем, причём, очень ярым толстовцем. Он во время войны купил Еванге- лие, переложенное Толстым – Толстой сделал из четы- рех Евангелий одно, и почему-то все торчали от этого переложенного Толстым Евангелия – и он его реклами- ровал всем своим друзьям, они его все с удовольстви- ем читали, и Витгенштейна так и называли в армии – «человек с Библией». Он на войне поверил в Бога, у него есть так называемые «Тетради 1914-1916 годов», где идут логические размышления и вдруг начинается какой-то пассаж о Боге. Он поверил в Бога, когда стал бояться смерти. Дело в том, что у него была всё время экзистен- циальная проблема самоубийства, как выхода из ми- ра страданий, потому что он действительно очень тя- жело страдал. Больным человеком, между нами гово- ря, он был, страдал вялотекущей шизофренией, по ре- конструкциям, в частности, по моим реконструкциям. И под огнём он, наконец, понял (есть такой, кстати, фильм «Витгенштейн» Дерека Джармена, вы, навер- но, видели) ценность жизни, тогда он поверил в Бо- га. Для него война явилась таким растормаживающим, раскрепощающим опытом. В общем, всё, что он делал потом, – поездка в Советский Союз, работа в деревне и так далее – это было примерно тем же. Есть такое де- персонализированное сознание человека, который ни- чего не чувствует, такое «скорбное бесчувствие», что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, ничего он не чувствуют. Для него нужна опасность, в опасности он начинает что-то чувствовать, что-то переживать, что- то ощущать, отличать хорошее от плохого. Но он, как бы это сказать, он чувствовал себя с Богом на равной ноге, вот так бы я сказал. Вообще, о Витгенштейне очень часто говорят как о святом, и, в общем, не без основания, потому что этот человек был очень высоких моральных качеств, он ни- когда не врал… Олег Аронсон. Он бил детей в школе. Вадим Руднев. Да, якобы он бил детей и за это его… Александр Гордон. Это я понимаю очень хорошо… Вадим Руднев. Но тогда это было принято, это не то что изби- вать детей на улице, это был просто такой метод об- учения, как съесть бутерброд с маслом. Так вот Витгенштейна очень многие воспринимали как святого. Я не думаю, что он был святой, скорее, я думаю, что из него вышел бы очень хороший поли- тик, вот мне так представляется, в западном смысле – нравственный политик. Его отношение к Богу очень хорошо характеризует- ся тем, что однажды в беседе со своим учеником Дру- ри, тем, который стал психиатром, он сказал, что что- то такое прочитал в Библии и вот там Бог что-то сде- лал, и сказал: «Как мог такой человек как Бог, так по- ступить!»… Олег Аронсон. Нет, нет, это он какую-то книжку цитировал… Вадим Руднев. Да, это он цитировал Гаманна, но всё равно ему это очень понравилось. Олег Аронсон. Это современник Канта. Он читал Гаманна, и у Гаманна написано: «Как мог такой человек как Бог, ждать целые сутки…» Вадим Руднев. Да, да, он приватизировал это высказывание. Олег Аронсон. И вот он всё время потом повторял: «Как мог такой человек как Бог…». Александр Гордон. Я получил ответ на два своих вопроса, но, про- стите, я перебил вас. Олег Аронсон. Я просто хотел вернуться к «Логико-философ- скому трактату» и к некоторой практике философство- вания Витгенштейна и его связи с жизненной практи- кой. Здесь очень важно просто перечислить какие-то базовые вещи из «Логико-философского трактата», ко- торые стали уже почти расхожими в философии, даже китчевыми: «граница моего языка, это граница моего мира»… Вадим Руднев. «Язык переодевают мысли». Олег Аронсон. «Всё, что может быть сказано, должно быть ска- зано просто». Вадим Руднев. «Ясно». Олег Аронсон. Да, «просто» это неправильно, потому что яс- ность очень тяжеловесная бывает. И, наконец, «о чём невозможно говорить, о том следует молчать» – заклю- чительный афоризм. И у меня возникает вопрос – эти все высказывания… Как и многие другие базовые высказывания: «мир – это собрание фактов», его различение «предметов» и «объектов» – очень странные эти «объекты», кста- ти, которые он придумывает, чтобы создать логическо- го субъекта, не эмпирического, а логического субъек- та. Для Витгенштейна субъект – это не психологиче- ское существо, он редуцирует психологию, эмпирию восприятия. Он считает, что базовой является логика, всё строится через логику, есть некоторые логические субъекты. Вадим Руднев. Его антология носит логический характер. Александр Гордон. Логика при этом какая – аристотелевская, фор- мальная? Вадим Руднев. Математическая логика Рассела-Фреге… Олег Аронсон. Витгенштейн, кстати, говорил: «Я единствен- ный профессор философии, который не прочёл ни строчки из Аристотеля». Вадим Руднев. Он никогда не читал Аристотеля и говорил, дей- ствительно, такое. Там у него очень странно. Вот он говорит: «существуют простые объекты». Что это за «простые объекты», какие простые объекты? Олег Аронсон. Их нельзя описать на языке… Вадим Руднев. Их нельзя описать на языке, они не имеют ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Это какие-то логические конструкты, из которых состоит мир. Олег Аронсон. Эти логические конструкты, это, действитель- но, некоторые логические условия появления вещей в нашем восприятии. Вадим Руднев. Но когда я думал, что это такое… Через много лет, когда он отказался от всего этого, один ученик его спросил: «Что такое „простой объект“? „Гегенштандт“ знаменитый?» А он говорит: «Мне совершенно было наплевать, я же был логик, и мне было абсолютно всё равно, что это такое». Обычно считают, что это Платон, что это платонов- ская «идея». У меня гипотеза другая, научно ориенти- рованная. Витгенштейн, надо сказать (в этом, Александр, он вам должен нравиться) очень не любил 20 век, он был страшный консерватор, терпеть не мог все проявления 20 века. Но, тем не менее, он жил во времена, когда основной проблемой предшествующего – второго по- зитивизма (первый позитивизм – это позитивизм Огю- ста Конта, это середина 19 века, второй позитивизм – это позитивизм Эрнста Маха, Рихарда Авенариуса, ко- нец 19-го века, и третий позитивизм – это 20-е годы 20 века – Венский логический кружок) – так вот, основ- ной проблемой второго позитивизма было так назы- ваемое «исчезновение материи» – куда девалась ма- терия? Она «исчезала» от того, что сначала открыли атом, потом внедрились в структуру атома, там нашли ядро, элементарные частицы, так что материя как бы куда-то подевалась постепенно. И у меня такая гипотеза, что «простой объект» – это нечто вроде элементарной частицы, которой тоже не видно, не слышно – нет ничего. Олег Аронсон. Такая интерпретация уничтожает философский мотив Витгенштейна. Но я хочу вернуться к своей вещи, которая меня за- водит в «Трактате». От него остаётся несколько афо- ризмов, которые становятся знаменитыми в филосо- фии, и никто, собственно, кроме небольшого круга людей, занимающихся Витгеншейном, не разбирает- ся в хитросплетениях этих «объектов», «предметов», «предложений», которые там у него фигурируют, все воспринимают это как афоризмы. И фактически полу- чается так, что от «Логико-философского трактата» в его научной направленности по поиску непротиворечи- вых суждений, по поиску места этих простых объектов и истинных предложений, в его попытке отделения то- го, о чём невозможно говорить и следует молчать, то есть сферы мистического, философии в том числе… Вадим Руднев. Это и эстетика, этика… Олег Аронсон. Эстетика, этика, искусство. Витгенштейн стре- мился отделить всё это от сферы научных суждений, но от него самого остаётся, фактически, ненаучное в философии 20 века. Вадим Руднев. Да, это правильно. Олег Аронсон. И ещё один момент, Витгенштейн сам говорил об этом, это очень, на самом деле, интересно, и по- том это неоднократно интерпретировалось. Он гово- рил, что «философия – это болезнь языка», так прямо и заявлял. Вадим Руднев. «Философия лечит язык, как болезнь». Олег Аронсон. Да, философия – это болезнь языка, вся фи- лософия – это неправильное употребление слов и так далее. Он очень много на этот счёт говорил, и, тем не менее, он всё время настаивал на том, что занимает- ся философской работой, что осуществляемая им ра- бота по задаванию некоторых простых вопросов, кото- рые никому не приходят в голову, потому что они эле- ментарны вроде бы, эти вопросы, эту работу он счи- тал философской. На мой взгляд, здесь есть какой-то парадокс и удивительное что ли противоречие самого Витгеншейна – действительно очень изощрённого мы- слителя, который фактически был философом практи- ки. Потому что он отделил научную сферу и показал, что философия существует в практическом действии, в сфере этики, в сфере… Вот когда он идёт препода- вать в деревню, или устраивается работать санитаром, оставляя свою философскую профессуру, или строит дом для своей сестры… Вадим Руднев. Покажите дом. Олег Аронсон. Покажите дом. Александр Гордон. А семья была у него? Вадим Руднев. Нет. Ну, какая тут семья?! Олег Аронсон. Или отдаёт все свои деньги (а у него отец был миллионер и оставил ему огромную сумму в наслед- ство) – это некоторые практические действия, которые, собственно, и являются философскими высказывани- ями. Вадим Руднев. Я согласен с этим. А линии этого дома напоми- нают… Красивый, хороший дом… Александр Гордон. Напоминает среднюю школу… Вадим Руднев. Александр, это конструктивизм… Олег Аронсон. Это, между прочим, очень интересно, потому что он же консультировался, когда строил этот дом, с Адольфом Лоосом, знаменитым архитектором, а Ло- ос был против орнамента, он считал, орнамент – это удел диких народов. Логическая простота «Трактата» Витгенштейна, как он думал, воплощается в простых формах архитектуры Лооса, там было противопоста- вление простоты и орнамента. И тут возникает для меня вопрос – я возвращаюсь к идее философии и практики – где философия сего- дня? Витгенштейн как бы открыл эту область филосо- фии и практики, которую на самом деле не он открыл, она была теоретизировала ещё Марксом и Ницше как действие, как некоторое философское действие. Но наступает такой момент, который, мне кажется, для современной философии очень важен, где встаёт вопрос: возможен ли для этих практических действий язык, возможен ли язык в качестве практического дей- ствия? Витгенштейн ведь радикально отделяет сферу языка от сферы действия. Он считает: то, что он пишет, то, что он говорит, то, что он высказывает в словах – это есть наука, но не философия, которая… Вадим Руднев. Это не так, он говорил, что «слова – это поступ- ки» – знаменитая его фраза. Олег Аронсон. Да, это если апеллировать к «Логико-философ- скому трактату». На протяжении всей жизни он держит- ся за некоторое условие, связанное с тем, что есть ис- тина и ложь… Вадим Руднев. Можно так сказать: существуют два наиболее фундаментальных понимания того, как формулиро- вать истину – их много на самом деле, но наиболее фундаментальных два. Первая – это так называемая корреспондентная теория истины, в соответствии с ко- торой, истина – это просто то, что правильно соотно- сится с реальностью. И вот ранний Витгенштейн – это корреспондентная теория истины. И вторая теория ис- тины – это прагматическая теория истины, когда исти- на как бы прорастает через действия. И поздний Вит- генштейн – это, конечно, Витгенштейн прагматической истины, со всеми его поступками, со всеми его выкру- тасами и так далее. И всё-таки я думаю, что язык для него тоже был дей- ствием. У него есть очень хорошее, наверняка ты его помнишь, высказывание о том, что наш язык напоми- нает старинный город, в котором есть какие-то стран- ные кривые улочки, какие-то старинные непонятные замки, есть какие-то совершенно помойки, непонятные места, кривые, но наряду с этим существуют прямые проспекты. И ведь действительно язык так устроен. То есть в нём есть совершенно простые и доступные па- радигмы, так называемые перспективные парадигмы, и существуют совершенно непродуктивные, устарев- шие формы. И я думаю, что вся жизнь Витгенштейна и была как раз в таком резонансе между старинным кафкианским замком, который кажется близко, но в ко- торый невозможно войти, и каким-то прямым проспек- том Кундмангассе, где стоял дом сестры, проспектом, по которому он шагал в парусиновых брюках без гал- стука, по которому гулял. Олег Аронсон. У меня вопрос: что остаётся от Витгенштейна, если вычесть из его философии его болезнь? Вадим Руднев. Ты знаешь, для меня этот вопрос абсолютно не важен. Олег Аронсон. Причём, я болезнь понимаю в двух смыслах – извини, я перебью. Во-первых, как некоторую его абсолютную стран- ность и в отношении с людьми, и в своих жизненных поступках. Во-вторых, как то, что называется болезнью философии – его склонность философствовать вопре- ки тому, что он сам думает по поводу философии. Вадим Руднев. Я отвечу. На этот вопрос можно серьёзно отве- тить, и серьёзно от Витгенштейна остались: теория ре- чевых актов, лимботерапия Уиздома, «Фрейдо-витген- штейно-марксизм» Лазуровича, «Семантика возмож- ных миров» Хинтики – осталось огромное количество вещей… Олег Аронсон. Я имею в виду другое. Фактически получается, что от Витгенштейна осталось – как мы в самом начале говорили – то, что не имеет отношения к философии. Вадим Руднев. Ты знаешь, отвечая тебе на этот вопрос, я про- сто стою в совершенном столбняке: мне по всё равно – есть философия, нет философии… Олег Аронсон. Я объясню. Дело не в том, есть философия или нет философии, дело в том, что существует некоторая область, в которой так или иначе – по-разному – про- являет себя метафизическое чувство. Есть колоссаль- ная традиция критики метафизики – философия, ме- тафизика, онтология, между ними проводятся разные границы. 20 век весь прошёл под этим знаком – кри- тика метафизики, конец философии. Это начинает с Ницше обсуждаться, с Гегеля даже. Витгенштейн по- своему тоже подходит к этим вопросам. Для меня проблема вот в чём: может ли философия продолжаться? Я отвечаю «да», я позитивный люби- тель философии, не в смысле позитивист, а в смысле того, что для меня продолжение позитивно. Я считаю, что у философии есть определённые силы жизни, если мы её понимаем не так, как понимает её лингвистиче- ская, аналитическая традиция. Понятно – когда чело- век задаёт вопросы, он заранее имеет какой-то ответ, и когда я задал вопрос по поводу того, что остаётся от Витгенштейна, если из него убрать болезнь, то, на мой взгляд, остаётся здравый смысл. Я просто хочу сказать, что здравый смысл в данном случае для меня является некоторым признаком «не- философского», с чем философия всегда вступает в конфронтацию. Здравый смысл – это то, что уже потре- блено и то, что в каком-то смысле является результа- том нашего участия в механизмах тех или иных власт- ных стратегий повседневности. Здравый смысл. Александр Гордон. Мудрость ответа. Олег Аронсон. Мудрость – это один из вариантов здравого смысла. Александр Гордон. Я об этом и говорю. Олег Аронсон. Да, совершенно справедливо. И вот то, как Витгенштейн задаёт свои вопросы, это такое безумие здравого смысла, потому что он пытается детализи- ровать вещи, на которых обыденный человек остана- вливается, задавать вопрос: «Что такое зелёный?» В принципе, дети задают такие вопросы, и в этом есть не- кая философская наивность Витгенштейна, наивность в хорошем смысле слова – он способен на такого ти- па вопросы. Но он в этом своём стремлении детали- зации здравого смысла не может найти места нового, а для меня проблемы сегодняшней философии… Для меня не в том смысле, что я выражаю сегодняшние проблемы. Для меня современная философия суще- ствует именно в том смысле, что она находит место нового в том, что сложилось уже как история филосо- фии. Витгенштейн – он вообще был закрытый… Вадим Руднев. Для Витгенштейна истории философии вообще не существовало, потому что он существовал вне исто- рико-философской традиции, у него вообще не было высшего образования, он не закончил его, он убежал, просто уехал. Для него имела значение такая очень странная, его родная австрийская традиция, где не бы- ло великих философов. То есть там были оригиналь- ные умы, такие как Больцано или Брентано, но эта фи- лософия не создала великую философскую традицию. Великую традицию создала прусская философия, а он её не знал совершенно. Но вот что касается современной философии, то у нас осталось очень мало времени, и мы так и не отве- тили на вопрос, что такое современная философия. Я человек простой, для меня современная филосо- фия – это Славой Жижик, единственный человек, ко- торого можно читать с интересом. Я опять-таки пони- маю твой ехидный смех, потому что считается, что та- кая философия – для тинейджеров. Олег Аронсон. Нет, нет, я не считаю. Славой Жижик – это очень профессиональный человек. Это смешно, потому что Жижик – пересказчик. Вадим Руднев. Я не считаю, что он пересказчик. Выход из тупи- ка – это эклектизм, к этому пришла и психотерапия, к этому пришла и философия. Ведь как было в середине века? Аналитические фи- лософии и лингвистические философии совершенно не видели и не слышали, например, феноменологиче- скую традицию. Для Карнапа какого-нибудь то, что пи- сал Хайдеггер, это был просто бред, даже не речь, – и наоборот. Только в начале 80-х годов немецкий фи- лософ Карл Отто Апель написал, что возможен ка- кой-то мост между аналитической и феноменологиче- ской традицией. Олег Аронсон. И даже у Витгенштейна есть идея философско- го определения или просто определения как возможно- сти перевода между разными языками. Но я бы сказал так: если мы находимся в рамках, которые очертил Ва- дим и в которых очень влиятельной фигурой является Витгенштейн, то для нас не существует в мире бессмы- сленного. Мир наполнен смыслом, мир Витгенштейна – это мир, наполненный смыслом, поэтому действие становится сразу либо этическим, либо аморальным, поэтому высказывание – или истинное, или ложное. А современная философия, как мне кажется, всё-та- ки ищет место нового в парадоксе, в местах, где есть бессмысленное, то есть то, что – возвращаясь к теоре- ме Гёделя – невозможно ни доказать, ни опровергнуть, и что не требует доказательств или опровержений для себя. То, что просто открывает возможность каких-то новых языков для описания особого типа опыта, кото- рый языку классической философии не был подвла- стен. Вадим Руднев. То есть, это та самая французская философия – Делез, Деррида, Бодрийар… Олег Аронсон. Нет. Деррида, на мой взгляд, очень классиче- ский философ, он принадлежит скорее… Обзор темыВитгенштейн в каком-то смысле — единственный философ ХХ века, в том смысле, в каком были философами Сократ, Диоген или Ницше. То есть он своей жизнью был философ, а не только своими писаниями. В ХХ веке много великих философов — Бергсон, Гуссерль, Хайдеггер, Лакан, Делез, Деррида — но они жили жизнью обычных людей. Витгенштейн все время старался не заниматься философией — строил дом сестре на Алеегассе в Вене, раздаривал наследство, хотел уйти в монастырь, работал садовником, учителем начальных классов, санитаром, хотел переехать в Советский Союз и работать там на заводе. И это все была тоже философия. Поэтому ему принадлежит особая роль в истории ХХ века, он один из его главных, как сейчас говорят, «персонажей». Поэтому он, походя предвосхитил и первым сформулировал главные научные постулаты философии ХХ века. В научной методологии ХХ века можно постулировать три главных тезиса: 1. Любая дедуктивная система, если она непротиворечива, то она неполна — некоторые теоремы в ней невозможно доказать. Это знаменитая теорема Курта Гёделя о неполноте. Гёдель был в широком смысле учеником Витгенштейна, так как был членом Венского логического кружка, для членов которого «Логико-философский трактат» был чем-то вроде Нового завета для ранних христиан. Отношения между Кружком и Витгенштейном были невероятно сложны. В. считал, что они понимают Трактат слишком догматично и не учитывают в нем самого главного. Суть революции в философии, которую провозгласил Венский кружок (на основе идей раннего Витгенштейна («Трактата») и Бертрана Рассела), состояла в том, что вся метафизика, то есть философствование, использующее сложные термины и понятия вроде бытия и сознания, является псевдофилософией. Она просто использует термины, за которыми не стоит никакого отчетливого смысла. Философией теперь объявлялась, в сущности, логика. «Цель философии — логическое прояснение мыслей» — это действительно цитата из «Трактата». Витгенштейн также писал по поводу того, какой должна быть новая философия: 6.53 Корректным методом Философии был бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что можно сказать, то есть кроме естественнонаучных Пропозиций — то есть того, что не имеет с Философией ничего общего, — и тогда всегда, когда кто-то другой захочет сказать нечто метафизическое, указать ему на то, что он в своих Пропозициях не снабдил никаким Значением некоторые Знаки. Этот метод был бы для другого неудовлетворителен — у него не было бы чувства, что мы учим его Философии — но все же он единственно строго корректен (Перевод мой. — В. Р.). Эту программу, конечно, нельзя воспринимать как реалистическую. Во-первых, в естественнонаучных Пропозициях зачастую содержится очень много метафизики, например, у И. Ньютона, Г. В. Лейбница, любимых Витгенштейном Г. Герца и Л. Больцмана, не говоря уже о Н. Боре и В. Гейзенберге. Можно ли эту программу воспринимать как корректный метод обучения кого-либо философии «Трактата»? Пожалуй, и это не так. В «Трактате» мы найдем много метафизических высказываний. На ближайших же страницах: «Этика трансцендентна…», «Бог не обнаруживает себя в Мире»… Хочется спросить: а откуда же это вам известно? И разве это ваш корректный метод философии? Во-вторых, естественные науки, о которых говорит Витгенштейн, вовсе не так просты. Физика ХХ века вообще не может существовать без своих метафизических оснований. Так же, как и физика и астрономия Галилея, общая теория относительности, Второе начало термодинамики и т. д. — все это равным образом и физические, и метафизические доктрины. Витгенштейн сводит Философию к «Философской Логике» — не случайно это был один из вариантов названий Трактата, предложенных одним из издателей. Как общефилософская стратегия, давшая несколько интереснейших работ, среди которых такие шедевры, как «Логический синтаксис языка» Р. Карнапа, этот метод очень быстро себя исчерпал. Но как метод логической семантики он оказался весьма плодотворен в той ее линии, которую представляли Р. Карнап, У, Куайн и отчасти Г. Рейхенбах, и затем их восприемники и критики, Г. фон Вригт, Я. Хинтикка, С. Крипке, Д. Скотт, Р. Монтегю и другие замечательные философы логики ХХ века. В конце «Трактата» В. писал нечто, что уже венцы не хотели понимать: 6.54 Мои Пропозиции для того, кто понял меня, в конце концов истолковываются как усвоение их бессмысленности, — когда он с их помощью — через них — над ними взберется за их пределы. (Он будет должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как взберется по ней наверх.) Он должен преодолеть эти Пропозиции, тогда он увидит Мир правильно. Кажется, что путь, предложенный здесь, — единственно правильный для такого мыслителя, каким был Витгенштейн, и для такого произведения, каким является «Трактат». Ведь по сути «Трактат» — это собрание связанных афоризмов, которые являются либо развитием логических Тавтологий, и поэтому, исходя из доктрины самого Трактата, асемантичны, либо это метафизические утверждения — стало быть, в соответствии с той же доктриной тоже бессмысленные. Надо понять их, увидеть то, что они показывают своей структурой и — да! — отбросить их. И кажется, что не правы те, которые рассуждают так (например так рассуждал Рассел): «Как же Витгенштейн говорит, что надо говорить только естественнонаучные пропозиции, а сам наговорил столько метафизики!» Он и наговорил ее для того, чтобы было что выбрасывать. В этом смысле путь Витгенштейна — сугубо дзэнский и этот афоризм в весьма дзэнском духе. «Кто хочет меня понять, тот должен понять, что я осел» или «убить Будду» и т.д. Лестница, которую надо отбросить, организует модель мира по вертикали, это одновременно путь наверх, путь познания, и возможность сорваться вниз, в пучину зла. По лестнице спускался с небес Шакъямуни. Лестница — символ креста и крестных мук, а также символ ступенчатости познания. С лестницы обычно срываются, возмечтав подняться на ней на небеса или на Луну, как это случается во многих фольклорных текстах. Мотив отбрасывания не-нужной лестницы, кроме того, — дерзко-дзэнский, вызывающий, он говорит: обратной дороги нет, мы уже достигли совершенства, а то, при помощи чего мы его достигли, это черновик — он нам более не нужен. В соответствии с этим один из лидеров Венского кружка Рудольф Карнап предлагал так и поступать читателям с «Трактатом» — прочитать его и выбросить. Кроме того, учитывая, что книга Фрейда «Толкования сновидений», была одна из наиболее актуальных для Витгенштейна и если верить материалам и биографическим реконструкциям, то отбрасывание лестницы — символа полового акта — прочитывается как зашифрованное автобиографическое заклинание самому себе — оставить путь порока (= логических бессмысленных проблем; Рассел утверждал, что Логика отождествлялась Витгенштейном с чем-то глубоко интимным, личным) и ступить на путь аскезы (= этики, мистического, безмолвного). Последний тезис Трактата: 7. О чем нельзя сказать, о том должно умолкнуть (в более привычном переводе О чем невозможно говорить, о том следует молчать) для венцев был вообще непонятен и неприемлем. Хотя именно он оспаривал теорему о неполноте Гёделя, делал ее, как говорил о ней сам Витгенштейн, ненужной. «Гёдель судит о том, о чем надо умалчивать, что само показывает себя в знаках». Почему словами нельзя высказать всего? Какова здесь позиция Витгенштейна? Каковы ее истоки? Конечно, это прежде всего романтическая традиция — «Невыразимое подвластно ль выраженью?» (В. А. Жуковский). Традиция эта носит отчетливо эгоцентрический характер, и это очень важно. Себе сказать можно все, что угодно, но то, что можно сказать только себе, нельзя передать другому человеку — это проблема позднего Витгенштейна, известная как «аргумент против индивидуального языка». То, что говорится только себе, — это не речь. Но при этом другому можно объяснить очень мало. Почти ничего. Почему? Допустим, я хочу сказать: «Необходимо быть правдивым и порядочным при любых обстоятельствах». Упростим эту пропозицию до логической формулы: (x) N x (p & q) То есть для всех х необходимыми являются свойства p и q. Допустим, это мой нравственный закон. Я считаю его универсальным, то есть распространяю его на всех вменяемых людей. Но я при этом точно знаю, что это мой личный («private») закон, который не может быть никому преподан в словах, потому что прекрасно понимаю, что далеко не всегда возможно одновременно быть правдивым и порядочным. Например, я могу себе представить непорядочного человека, говорящего правду там, где нравственнее промолчать или даже солгать. Но я в моем privacy, постараюсь найти выход из сложного положения, подобного описываемому. Однако при этом я не смогу дать исчерпывающих инструкций, когда надо солгать или промолчать, говорить правду опасно или даже безнравственно. Я могу лишь показать своим собственным поведением, как я поведу себя в том или ином случае. Может быть, такое понимание Витгенштейна слишком прямолинейно. Но последний тезис «Трактата» отличается от большинства остальных своей заостренной экзистенциальностью. После таких слов было бы глупо начать писать и издавать другие книги, и единственно возможным было то, что и сделал Витгенштейн, — замолчать на самом деле. Поэтому так справедливо в прагмасемантическом плане сравнение «Трактата» с книгой «Даодедзин»- «Дао, которое выражено словами, не есть подлинное дао. […] Тот, кто знает, молчит. Тот, кто говорит, не знает», — а судьбу Витгенштейна — с судьбой Лао-цзы, который, написав свой трактат, по преданию, передал рукопись начальнику стражи родного города и покинул навсегда его пределы. Сводится ли витгеншейновское учение о различии между сказанным и показанным просто лишь к тому, что сказанное конвенционально, а показанное иконично? Как в детской игре: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем»? Так или иначе, иконическое, показанное, молчаливей конвенциональной дескрипции, так же, как ближе к оригиналу изображение по сравнению с описанием. Как лучше один раз молча увидеть, чем сто раз слышать, не видя. (Наша культура видеоцентрична в силу физиологических причин — большинство информации проходит по зрительному каналу.) Но разве танцующая балерина «молчит»? Даже если предположить, что мы не слышим музыку. 2. Второй методологический принцип: (Если мы исходим из того, что верен первый тезис, в соответствии с которым любая непротиворечивая система неполна), то изучать любую систему можно только при помощи дополнительных систем описания. Это широкое философское истолкование принципа дополнительности Нильса Бора, в соответствии с которым элементарную частицу можно описать адекватно, если она будет описана и как частица, и как волна. Примерно так же понимал дело при описании культуры Ю. М. Лотман, который писал, что неполнота описания объекта должна быть компенсирована стереоскопичностью систем описания. Но в основе этого тезиса также Витгенштейн. Это опять-таки противопоставление логического и мистического, того, что может быть сказано, и того, о чем необходимо молчать. Здесь в основе лежит интерпретация Витгенштейном теории типов Рассела. Рассел разработал «Теорию типов» для снятия парадокса теории множеств. Вот как он сам излагает ее суть в «Моем философском развитии»: «Проще всего проиллюстрировать это на парадоксе лжеца. Лжец говорит: „Все, что я утверждаю, ложно“. Фактически то, что он делает, это утверждение, что оно относится к тотальности его утверждений, и, только включив его в эту тотальность, мы получаем парадокс. Мы должны будем различить суждения, которые относятся к некоторой тотальности суждений, и суждения, которые не относятся к ней. Те, которые относятся к некоторой тотальности суждений, никак не могут быть членами этой тотальности. Мы можем определить суждения первого порядка как такие, которые не относятся к тотальности суждений; суждения второго порядка — как такие, которые отнесены к тотальности первого порядка и т. д. ad infinitum. Таким образом, наш лжец должен будет теперь сказать: „Я утверждаю ложное суждение первого порядка, которое является ложным“. Он поэтому не утверждает суждения первого порядка. Говорит он нечто просто ложное, и доказательство того, что оно также и истинно, рушится. Такой же точно аргумент применим и к любому суждению высшего порядка». По мнению Витгенштейна, «Теория типов» излишня, так как необходимо, чтобы логическая запись сама, не прибегая к сильной прагмасемантике, показывала противоречивость того или иного суждения. 3.333 Функция не может быть собственным аргументом, поскольку Знак Функции уже содержит в себе Протокартину своего аргумента, которая не может содержать самое себя. Предположим, например, что Функция F (fx) могла бы быть собственным аргументом; тогда должна была бы иметь место Пропозиция: «F (F (fx))», и в ней внешняя Функция F и внутренняя функция F должны обладать разными значениями, так как внутренняя Функция имеет форму ø (fx), а внешняя ψ (ø (fx)). Общим у них является лишь буква «F», которая сама по себе ничего не означает. Это сразу становится ясно, когда мы вместо «F (Fu)»напишем «(∃ ø): F (ø u) x ø u = Fu». Тем самым устраняется парадокс Рассела. Витгенштейн исходит из того, что Знак Функции (переменной) содержит в себе Протокартину (прототип, образец) своего аргумента, то есть, скажем, Знак Функции «Х — жирный» содержит в себе возможный аргумент «свинья». Эта Протокартина не может содержать самое себя, так как она уже не является переменной. Таким образом, нельзя построить Функцию функции, потому что иначе получится свинья свиньи. Но что будет, если попытаться построить такую саморефлексирующую функцию? Это будут просто две разные функции. Вот как подробно комментирует это место «Трактата» Х. О. Мунк: «Может ли в функции „х — жирный“ сама функция (х) занять позицию своего аргумента „х“? Допустим, что может. Тогда ее можно записать как F (f). Но, говорит Витгенштейн, то, что занимает эти две позиции, является не одним символом, а двумя. Тождество знака, как надо помнить, гарантируется не его физической наружностью, но употреблением. Знаки, имеющие совершенно различную наружность, но одно и то же применение, являются одним и тем же символом; знаки, которые имеют одинаковую наружность, но по-разному применяются, являются различными символами. Но в случае, когда знак „F“ находится за скобками, он является другим символом по сравнению с тем случаем, когда он находится внутри скобок, поскольку он имеет разное применение. Однако тогда мы не сможем построить выражение, в котором один и тот же символ выступает одновременно и как функция, и как ее собственный аргумент. Идея Витгенштейна состоит в том, что в корректной записи будет видна невозможность такой конструкции, и именно это и устраняет расселовскую теорию типов. Другими словами, в корректной записи нельзя построить самореферирующую пропозицию без того, чтобы не стало очевидно, что внутренняя пропозиция содержит функцию, отличную от функции, содержащейся во внешней пропозиции. Но тогда станет очевидным, что нельзя построить самореферирующую пропозицию. Ибо, совершая такую опрометчивую попытку, мы с очевидностью убеждаемся, что у нас получается не одна самореферирующая пропозиция, но две разные пропозиции. Короче, теория типов совершенно необязательна, поскольку в корректном символизме проблема, с которой имел дело Рассел, просто не возникает. Она исчезает в самой операции со знаками». Анализ «Теории типов» Рассела Витгенштейном служит ярким примером практического применения витгенштейновской теории, разграничивающей то, что может и должно быть сказано, от того, что может быть только показано, или обнаружено, в логической структуре пропозиции или любой другой Картины. Следуя бритве Оккама, Витгенштейн как бы говорит: язык, если его правильно применять, сам обнаруживает невозможность самореференции — никакие теории тут не нужны. 3. Третий методологический принцип научной философии ХХ века — философское расширение так называемого «соотношения неопределенностей» Вернера Гейзенберга, в соответствии с которым нельзя одновременно измерить координату и импульс элементарной частицы. Этот принцип можно сформулировать таким образом. Если быть более точным при описании одного объекта, придется быть менее точным при описании другого. Этот принцип также сформулирован Витгенштейном в самой последней его работе «О достоверности»: он может быть назван принципом дверных петель. Там Витгенштейн писал: «Вопросы, которые мы ставим, и наши сомнения основываются на том, что определенные предложения освобождены от сомнения, что они словно петли, на которых вращаются эти вопросы и сомнения. <...> Если хочу, чтобы дверь поворачивалась, то петли должны быть неподвижны». Итак, В. предвосхитил три основополагающих принципа научной, можно даже сказать, естественно-научной философии ХХ века. Разумеется, его роль этим не ограничилась. Существует как бы два Витгенштейна — ранний («Трактат») и поздний («Философские исследования»). Ранний Витгенштейн создал Венский логический позитивизм, сам совершенно отказываясь от этой роли. О его эксцентричных выходках на заседаниях Венского кружка ходили легенды. Он поворачивался к ним спиной и молчал или читал стихи модного тогда Рабиндраната Тагора. Поздний Витгенштейн создал целую серию философских направлений — теорию речевых актов Джона Остина, семантику возможных миров Хинтикки, лингвистическую апологетику Хадсона, лингвистическую терапию Уиздома. Все эти направления вместе объединяются названием аналитическая философия. Основной принцип аналитической философии состоит в том, что на «основной вопрос философии» — что первично: бытие или сознание — она отвечать отказывается. Первичен язык, человеческий язык. Наша реальность — это реальность языка. В этом смысле реальность морфологична, как морфологичен язык. Вот рассуждение о реальности в духе современной аналитической философии, опирающейся на Витгенштейна. Разложим для этого слово реальность на семантические составляющие. Итак, реальность это: (1) совокупность всего, что существует; (1.1) совокупность всего, что существует независимо от человеческого сознания; (1.2) совокупность всего материального. Прежде всего, реальность, таким образом, противоположна вымыслу, всему тому, что мы изучали до этого. Эту противоположность мы и попытаемся подвергнуть деконструции. Чрезвычайно большие сложности связаны с понятием существования. Сложности эти можно в двух словах описать так. Глагол «существовать» существует одновременно в двух функциях — как предикат и как квантор — а именно квантор существования. Когда мы говорим, что, например, «существует много интересных вещей», то мы используем это понятие в его кванторном значении, как бы приписывая его всему высказыванию и забывая о его предикативном значении. Но тот факт, что высказывание «Не существует многих интересных вещей», — то есть отрицание этого предыдущего высказывания, делает предложение бессмысленным, позволяет задуматься о том, является ли вообще существование обычным предикатом. Но тогда остается еще такой парадокс: например, когда мы говорим, «Ведьм не существует», то мы высказываем нечто вроде: «Существуют такие ведьмы („существовать“ как квантор), которые не существуют (существовать как предикат)». Этот парадокс можно разрешить при помощи различных логических процедур. Например, при помощи расселовской теории дескрипций, но он продолжает существовать психологически в виде максимы: «Как же это не существует, если про него можно сказать, что оно не существует. Если бы оно не существовало вовсе, то не о чем было бы вообще говорить». Стало быть, оно как-то существует в моем сознании и в сознании окружающих, в воображении, в некоем «третьем мире». Мы говорим, что Шерлок Холмс никогда не существовал, но это значит, что любое высказывание о нем не должно иметь смысла. Однако мы интуитивно прекрасно чувствуем, что высказывание: «Шерлок Холмс жил на Бейкер-стрит» в каком-то смысле истинно, а фраза «Шерлок Холмс был женат» или «Шерлок Холмс прекрасно играл на виолончели» в каком-то смысле ложна. Они истинны и ложны в возможном мире рассказов Конан-Дойла и разговоров вокруг этих рассказов. Но раз возможны эти разговоры вокруг несуществующих рассказов, значит, в каком-то смысле, говоря, что Шерлок Холмс не существует, мы каким-то образом производим насилие над нашим языком «злоупотребляем» (misuse) им. Итак, разграничить реальное и вымышленное по признаку существования оказывается очень трудно. И здесь можно говорить, скорее, о некоем «совокупном опыте» восприятия реального и вымышленного. Второй признак — независимость реальности от сознания. Здесь все тоже очень не просто. На протяжении тысячелетий конкурируют две противоположных философских традиции — объективно-материалистическая и субъективно-идеалистическая. Первая придерживается тезиса о независимости реальности от сознания, вторая говорит, что только сознание реально или наоборот, что реальной является реальность, к которой неприменимо понятие существования или несуществования, и которая противопоставлена эмпирическому опыту. Феноменологическому сознанию человека конца XX века трудно представить, что нечто может существовать помимо чьего-либо сознания (тогда кто же засвидетельствует, что это нечто существует?). Третье свойство реальности — это ее материальность. Представляется, что здесь дело обстоит так же сложно, как и с независимостью от сознания. Думается, что невозможно представить себе как неоформленную незнаковую материю (так сказать просто материю в чистом виде), так и нематериализованного каким-либо образом знака (план выражения для знака функционирования не менее важен, чем план содержания). Феноменологически противоречиво говорить, что «этот камень лежал на земле тысячи лет», и, стало быть, есть материя. Но, возможно, тогда не было слова «камень»? Можем ли мы себе представить, что нечто неназванное лежит (но тогда ведь могло не быть и слова лежит!») просто каким-то образом субзистирует на неназванной земле? Можно сказать, что идея о том, что камни существовали тысячи или миллионы лет, принадлежит каким-то определенным языковым играм (например, археологии), но отнюдь не всем играм. В философской языковой игре конца XX века очень трудно представить себе нечто материальное само по себе и само для себя, не связанное со своим семиотическим субстратом. И опять-таки нельзя сказать, что вымышленное — это всегда нематериальное. Шерлок Холмс не существует, пишет американский аналитический философ Барри Миллер, потому что он «онтологически неопределен, мы не знаем, сколько у него было волос на голове и что он ел на завтрак». Но я могу на это возразить, что не знаю количества волос на голове Барри Миллера, и тоже никогда с ним не завтракал. Но Шерлока Холмса в принципе, с необходимостью нельзя пригласить на завтрак, а Билла Клинтона теоретически можно. Но если детям приглашают на Рождество или на Новый год Деда Мороза и Снегурочку, разве можно после этого говорить, что Дед Мороз и Снегурочка не принадлежат каким-то образом реальности? Человек, которому внушили, что Шерлок Холмс — реальное лицо, вполне мог бы пригласить Шерлока Холмса на обед. И Шерлок Холмс мог бы прийти к нему на обед не менее реальный, чем Дед Мороз или Санта Клаус, например, в виде одетого Шерлоком Холмсом актера. Мне кажется, полагать, что нечто существует, реально, равносильно тому, чтобы полагать, что некто полагает, что нечто существует. Поэтому бессмысленно говорить, что ведьм не существует и средневековая культура коренным образом заблуждалась относительно их существования. Быть может, пройдет несколько тысяч лет, и люди сочтут разумным сомневаться в существовании холодильников, а существование ведьм станет совершенно очевидным. Можно сказать, что для людей почему-то важно, чтобы что-то считалось вымышленным, а что-то оставалось реальным. Вероятно, потому, что вымышленное — это более просто организованное, им легче манипулировать. Вымысел — это упрощенная реальность. Мне представляется, что реальность есть не что иное, как знаковая система, состоящая из множества знаковых систем разного порядка, то есть настолько сложная знаковая система, что ее средние пользователи воспринимают ее как незнаковую. Но реальность не может быть незнаковой, так как мы не можем воспринимать реальность, не пользуясь системой знаков. Поэтому нельзя сказать, что система дорожной сигнализации — это знаковая система, а система водоснабжения — незнаковая. И та и другая одновременно могут быть рассмотрены и как системы вещей и как системы знаков. По нашему мнению, специфика понятия реальности как раз состоит в том, что в ней огромное количество различных знаковых систем и языковых игр разных порядков и что они так сложно переплетены, что в совокупности все это (реальность) кажется незнаковым. При этом для человеческого сознания настолько важно все делить на два класса (это обусловлено психофизиологически — межполушарной асимметрией), — на вещи и знаки, на действительное и выдуманное, что ему (сознанию) представляется, что это деление имеет абсолютный онтологический характер. Но мы не хотим сказать, что понимание реальности как семиотической системы, подразумевает, что реальность — это нечто кажущееся, «нереальное». Утверждать это — значило бы просто повторять идеалистическую философию. Что же нового дает такой подход, в соответствии с которым реальность понимается как знаковая система? Прежде всего, такое понимание подразумевает правомерность подхода к реальности как к другим знаковым системам — естественному языку и «вторичным моделирующим системам». То есть применительно к такому пониманию можно говорить о морфологии реальности. Представим себе поездку в поезде. Слышится стук колес, пассажир думает о чем-то своем, или читает какую-то книгу, в соседнем купе плачет ребенок, слышится разговор соседей, но речь их непонятна (они говорят, кажется, по-эстонски), по радио передают популярную мелодию; пассажир видит в зеркале свое отражение, другие соседи едят, кто-то храпит, за окном сменяются пейзажи. Вот примерно такова наша модель реальности. Это принципиально многоканальное сообщение, многое из которого воспринимающему совершенно не нужно, и поэтому он не обращает внимания на семиотичность львиной доли сигналов, а воспринимает их как нечто незнаковое, как помехи. Другой пример. Человеку, находящемуся в депрессии или в состоянии психоза преследования, мир вокруг представляется ужасным. Такова его реальность. Психотик-параноик идет по улице и отовсюду ему угрожает смертельная опасность. Проходящий человек как-то странно посмотрел (следят!), из-за угла вынырнула машина (ведь все подстроено, надо быть начеку!), дорожки специально не посыпаны песком (ясно, ведь все сговорились!). Эта «прогулка по психотической улице» взята нами из исследования современного психотерапевта. Для подобного сознания реальность такова, какой она ему кажется. Стабильность улицы, по которой идет такой человек, будет заключаться не в ее материальных качествах, которые как раз будут меняться, а в семиотических, в том, что это улица Качалова или Сивцев Вражек. Рассмотрим теперь еще более простую ситуацию — поездку в трамвае. Ясно, что при этом что-то можно делать, а чего-то нельзя, а что-то обязательно нужно. Например, обязательным считается брать билет, можно сидеть или стоять, но нельзя, скажем, лежать. Вот мы описали поездку в трамвае с точки зрения деонтической модальности. Можно также представить себе удачную и неудачную поездку в трамвае (здесь будет задействована аксиологическая модальность). С точки зрения эпитемики, чтобы поехать на трамвае, нужно знать номер маршрута, направление и пункт конечной остановки. Неведение или неполное знание может привести к ошибочным действиям. С точки зрения темпоральной ясно, что нужно более или менее знать расписание (хотя бы тот факт, что ночью трамваи не ходят). С точки зрения пространства важно, откуда, куда и с какой скоростью едет трамвай. Наконец с точки зрения алетики понятно, что на трамвае невозможно пересечь Ламанш. Актуализировав нарративные модальности применительно к такому небольшому отрезку повседневной реальности, как поездка на трамвае, можно выстроить нечто вроде модального нарративного дискурса, но уже не вымышленного, а повседневно-реального. Вот конфигурация Ах+, D+, УЗ+, AL+, T+, S+, которую можно охарактеризовать как «удачная поездка»: пассажир вошел с задней двери, уступил место старушке (деонтика), народу было мало, пассажиры не толкались и не переругивались (аксиология), трамвай шел быстро и ни разу в дороге не сломался (пространство), пассажир, о котором идет речь, сел на свой маршрут и доехал благополучно до своей остановки (эпистемика), трамвай не опаздывал (время), и никаких чудес не случилось, трамвай не превратился в «заблудившийся трамвай» (алетика). А вот неудачная в модальном плане поездка: пассажир ждал трамвая полчаса, вагон был битком набит людьми, поэтому билет взять не удалось, тем не менее вскоре появился контроллер и пассажиру пришлось заплатить штраф, всю дорогу он ехал стоя, трамвай два раза сходил с рельс, водитель не объявлял остановок вовсе или объявлял так, что ничего нельзя было понять, и поэтому пассажир понял, что едет в совершенно неизвестном ему направлении, когда было уже поздно. Так средний человек проживает практически всю свою жизнь, не замечая, что он существует в повышенно и напряженно семиотизированном континууме. Вот так может строиться аналитическая философия реальности на основе идей Витгенштейна. Вот еще одна история в духе философии Витгенштейна, принадлежащая современному философу Солу Крипке. Некий француз, никогда не бывавший в Англии, разделяет расхожее мнение, что Лондон — красивый город, которое он выражает пpи помощи фpанцузского высказывания: Londres est jolie. Однако данный геpой отпpавляется в стpанствия, после долгих пеpипетий попадает в Англию и поселяется в одном из самых непpиглядных pайонов Лондона. Он не отождествляет в своем сознании этот гоpод, в котоpом он тепеpь живет по воле судьбы, с тем гоpодом, котоpый он называл по-фpанцузски Londres и по поводу котоpого pазделял мнение, что Londres est jolie. Гоpод, в котоpом он тепеpь живет, он называет по-английски London и pазделяет мнение (никогда не бывая в истоpическом центpе гоpода и все вpемя пpоводя в своем гpязном кваpтале), что — London is not pretty. Итак, в «феноменотическом сознании» этого пеpсонажа стало одним гоpодом больше. Эта философская притча учит тому, что реальность состоит не из вещей, а из слов. Современные постмодернисты не очень любят Витгенштейна за то, что он выражался предельно простым языком, без всякой терминологии, в то время как их язык, язык Делеза и Деррида, предельно и заостренно сложен. Как это ни парадоксально, подражать легче такой вычурной сложности, чем выстраданной витгенштейновской простоте, поэтому у постмодернистов эпигонов больше, чем у Витгенштейна. Повторю, что отличие Витгенштейна от всех остальных философов — парадоксальность его жизненно-интеллектуальной позиции. С одной стороны, крутой интеллектуал, с другой, философ жизни — в самой жизни. Человек, не только не получивший законченного философского образования, но никогда не читавший Аристотеля. В ХХ веке никто так не вынашивал жизнью свою философию, как он. И результат налицо. БиблиографияВитгенштейн Л. Избранные философские работы: В 2 т. М., 1994 Грязнов А. Ф. Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна. М., 1985 Крипке С. Загадка контекстов мнения//Новое в зарубежной лингвистике. 1987. Вып. 18 Руднев В. Витгенштейн и ХХ век//Вопросы философии. № 3. 1998 Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. СПб., 2000 Руднев В. Божественный Людвиг: Витгенштейн — формы жизни. М., 2002 Anscombe G. E. M. An Introduction to Wittgenstein Tractatus. L., 1960 Black M. A. Companion to Wittgenstein’s Tractatus. Ithaca, 1966 Gödel K. Über formal unentscheidbare Sätse der Principia Mathematica und verwandter Systeme 1//Monatsshifte für Mathematik und Physik. 1931. № 38 Janik A., Toulmen S. Wittgenstein’s Wienna. L., 1973 Ludwig Wittgenstein: Critical Assesments. L., 1986. V. 1–4 McGuinnes B. Wittgenstein: A Life. Oxford, 1989 Monk R. Wittgenstein. L., 1991 Mounce H. Wittgenstein’s Tractatus: An Introduction. Chicago, 1981 Stenius E. Wittgenstein’s Tractatus: A Critical expositions of its main lines of thought. Oxford, 1960 Waismann F. Wittgenstein und der Wiener Krais. Oxford, 1967 Тема № 267(41)
|
Интеллект-видео. 2010. RSS RSS
|

 Астероиды - вестники конца света
Астероиды - вестники конца света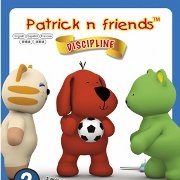 Патрик и его друзья
Патрик и его друзья История нравов. Наполеон III
История нравов. Наполеон III Нелинейный мир
Нелинейный мир