Гуманитарные науки Подразделы категории "Гордон": Мифологизация истории
Материалы к программеИз статьи И. С. Свенцицкой «Сакральная история» в христианских апокрифах II-V вв»: Начиная со II века, и особенно интенсивно в III-IV веках, в Римской империи получает распространение особый жанр христианской литературы: сказания, посвященные персонажам евангельской истории, дополняющие и своеобразно излагающие те сведения о них, которые содержались в Новом завете. В ранних Евангелиях, не только вошедших впоследствии в канон, но и в иудео-христианских, основой вероучения было таинство чуда воскресения Христа, обещавшее искупление грехов и спасение во время скорого наступления конца этого земного мира и Страшного суда. Чудо воскресения было несоизмеримо даже с чудесами, совершенными по описанию Евангелий самим Иисусом. Для верующих I века это были прежде всего чудеса исцеления: в Деяниях апостолов в уста Петра вложены слова об Иисусе: «Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с ним». Наставления об исцелении Иисус давал апостолам согласно Евангелию Фомы из Наг-Хаммади: «Тех, которые среди них больны, лечите». Но время шло, установление Царства Божия отодвигалось в неопределенное будущее. Менялся состав верующих, которые перестали составлять узкий круг ощущавших себя избранными последователей Иисуса. К христианам приходили люди разных национальностей, традиций, социальных слоев, люди, которые ощущали себя потерянными, обиженными, не нашедшими места в системе огромной бюрократической Империи. Во II веке создаются повествования о детстве Марии и Иисуса, в которых неверующие тут же наказываются Иисусом-мальчиком, а позднее — создаются рассказы о Пилате, деяния отдельных апостолов. Особенностью всей этой внеканонической литературы было сочетание рассказов о самых фантастических чудесах, превосходящих чудеса, описанные в Новом завете, часто связанных с фольклорными традициями, и поучений, вложенных в уста апостолов, а также тех, кого называют свидетелями Христовыми. С. С. Аверинцев, сопоставляя рассказы апокрифических Евангелий с каноническими, называет первые низовой словесностью, «занимательной и пестрой сказкой». Однако если внимательно вчитаться в содержание апокрифов, то можно увидеть, что пестрая сказка отнюдь не самоцель: описания чудес и выступления героев сказаний решали по существу одну задачу — показать торжество христианской веры не в отдаленном будущем, а с самого момента проповеди Иисуса и апостолов. Низы христиан жаждали возможности чудес спасения и чудес наказания врагов христианства здесь и сейчас. Чудо переставало быть великим таинством, оно могло произойти везде и со всеми. По существу в подобных произведениях проявлялось то, что можно назвать компенсаторным или вторичном мифотворчеством, когда желаемое воплощается в переосмысление истории — сакральной и светской. …Как сказал еще в ХIХ веке один из исследователей апокрифов, авторы их создавали «историю как она должна быть»… Распространенная сюжетная схема таких деяний — апостол приходит проповедовать христианство в какой-либо город; совершает самые разные чудеса, народ удивляется проповеди чужака, и массы начинают следовать за ним. Характерно, что чужеземное происхождение способствует воздействию. Почитался как чудотворец, святой, не имеющий традиционных семейных и общинных связей. Как отмечает П. Браун, в поздней античности, в частности, в восточных провинциях именно чужак (total stranger), которого считали существом сверхъестественным. …История I века хорошо известна, она могла быть доступна тем, кто создавал апокрифы. Но авторов подобных деяний не интересовала историческая достоверность; место действия, подлинное название должностей составляли как бы раму для событий, которые не могли, но должны были произойти. В основе большинства апокрифических деяний лежит устная постканоническая традиция, призванная заполнить лакуны новозаветных писаний и прославить тех апостолов, которые особо почитались в данной местности. Когда эти деяния записывались и переписывались, происходило редактирование и изменение текста, более поздние варианты усложнялись. Некоторые апокрифы были сразу созданы как писаные произведения: таковыми были не дошедшее донесение Пилата Тиберию (оно упомянуто в Учении Аддая) и донесение Клавдию, созданные по примеру донесений наместников императорам. Широкое распространение в империи грамотности и письменного общения приводит к созданию особого жанра письма, оказавшего влияние и на христиан… Апокрифические сказания и деяния анонимны или псевдонимны, хотя в отношении некоторых еще в древности были известны их авторы… Среди исследователей нет единства мнений о генезисе подобной литературы. В описании чудес безусловно влияние фольклора, что же касается жанра в целом, то некоторые историки возводят христианские писания к так называемому жанру «ареталогии», когда рассказ посвящен деяниям выдающегося человека, наделенного божественной силой и совершающего чудеса. …Скорее можно говорить об общей атмосфере жажды чудес, которая существовала среди населения казалось бы благополучной империи II века и тем более в последующий кризисный III век, и которую так ярко описал и высмеял Лукиан в своем памфлете «Александр или лжепророк». С моей точки зрения, если и можно говорить об известном сходстве между языческой и христианской литературой II-IV веков, то главным образом это касается некоторых сюжетных линий. Нельзя упускать из виду, что существенной особенностью, отличающей христианские писания от греко-римской литературы, была четкая миссионерская и апологетическая задача, а также стремление включить в увлекательный сюжет теологические и нравоучительные поучения. …Можно наметить некоторую связь и с ветхозаветными традициями: …Ветхом завете существовал жанр сказки, которая повествует о нереальном событии, но в форме, призванной создать у слушателя-читателя впечатление достоверности рассказанного, поэтому в сказку включаются конкретные, нередко достоверные детали (напр. История Ионы). Некоторые «исторические» новеллы Ветхого завета, где действуют вымышленные лица, имеют определенную идеологическую направленность — в частности, история Эсфири и Мордехая (Мардохея в синодальном переводе)… Оба эти жанра — и ветхозаветный, и языческий — могли повлиять на форму христианских писаний, однако задачи этих писаний и обращение с историей было в них иным, поскольку главные герои — апостолы были реальными людьми, действующими в нереальных ситуациях, и задачей деяний было не придание рассказу достоверности, а тенденциозная реконструкция (не просто вымысел) истории. Рассказанное в Книге Эсфири не происходило в действительности, но теоретически могло произойти: персидскому царю служили реальные евреи, и роль цариц при дворе была достаточно велика. Описанное же в христианских апокрифах не только не происходило, но и не могло произойти. <…> Как происходили переосмысление и переделка подлинных событий в апокрифических сказаниях, можно проследить на нескольких примерах. Светоний в биографии Тиберия сообщает, что император запретил чужеземные священные действия, в особенности иудейские и египетские; молодых иудеев под предлогом военной службы разослал в провинции с тяжелым климатом (впрочем, это не слишком помогло, уже при последующих императоров почитатели и тех, и других культов снова были в Риме). В одном из сказаний о конце Пилата, составленном на греческом языке, вероятно, в IV в. , Пилат предстает перед императором Тиберием, который обвиняет его в смерти Иисуса, но Пилат всю вину возводит на иудеев («Я сделал это из-за мятежа и беззакония иудеев», — говорит он). Тогда Тиберий отдает приказ наместнику восточных провинций в наказание за совершенное жителями Иерусалима и окрестных городов преступление изгнать иудейский народ из всей Иудеи и отправить «в рассеяние по всем народам, чтобы они рабствовали у них». В этом эпизоде отражена явная антииудейская направленность, прослеживаемая в ряде христианских произведений этого времени, а изгнание иудеев из Рима при Тиберии превращено в общеимперский акт. Применено здесь и своеобразное дублирование, отнесение более поздних событий к более раннему времени: то, что происходило после разгрома восставших во время Первой иудейской войны, когда взявший Иерусалим в 70 г. Тит массу пленных иудеев превратил в рабов, а также жестокие меры императора Адриана после подавления движения Бар Кохбы (134–132 гг. — иудеям было разрешено посещать только раз в год Иерусалим, ставший римским городом Элиа Капитолина), оказались в апокрифе деянием императора Тиберия, правившего значительно раньше. Но ни Тит, ни тем более Адриан не могли быть современниками Иисуса и Пилата, поэтому стремление народных масс верить в мгновенное торжество христианства вопреки исторической правде вызвало к жизни подобные временные переносы. Появление Пилата при дворе Тиберия, последующая его казнь и раскаяние перед казнью, о чем говорится в этом апокрифе, разумеется, вымысел. Причем мы видим здесь не только противоречие с действительными событиями (Пилат был отстранен от должности императором Калигулой в 37 г. из-за жалоб иудеев, обвинявших его в жестокости), но и с распространенной христианской традицией. Дело в том, что среди христиан имело хождение подложное донесение Пилата императору Клавдию о казни Иисуса. Составители апокрифа о Пилате и Тиберии или не знали или игнорировали эту версию, согласно которой Пилат был жив при Клавдии, правившем после Тиберия и Калигулы. Но для многих христиан было важно, что возмездие настигло Пилата сразу же после распятия Иисуса. Похожее обращение с историей можно увидеть и в отношении императора Клавдия в сирийском «Учении Аддая (Фаддея) апостола». Этот апокриф был первоначально создан, вероятно, на рубеже IV-V веков, хотя легенды о христианизации сирийской области Осроэна восходят к более раннему времени. Клавдий в этом произведении назван соправителем Тиберия и при этом к нему применяется титул кесарь (хотя на самом деле между Тиберием и им правил еще Калигула). Для того, чтобы ввести в действие Клавдия, как главного правителя, Тиберия отправляют в Испанию на подавление вспыхнувшего там восстания. Восстание действительно имело место, но нет никаких сведений (а и Тацит и Светоний подробно рассказывают о действиях Тиберия), что император сам подавлял его: это было бы необычно для правления Юлиев-Клавдиев. Такое совмещение двух императоров в одних хронологических рамках не было просто литературным приемом, литературной условностью, как называет это Е. Н. Мещерская. Это совмещение позволяло сделать Клавдия современником героя повествования Аддая апостола, действовавшего в Осроене от имени Иисуса. Жена Клавдия Протоника приняла христианство, совершила путешествие к христианским святыням в Палестине, тем самым предшествуя всему тому, что было связано в христианских рассказах с деятельностью матери Константина Еленой — происходило дублирование и удревнение не только событий, но и легенд. Само имя не существовавшей жены Клавдия символично — скоре всего, оно значит «Первая победа» — первая победа христианства в императорской семье. Протоника стала свидетельницей чудес и, вернувшись, поведала обо всем Клавдию, в том числе и о неверии иудеев. Тогда Клавдий приказал изгнать иудеев из Италии. Таким образом Клавдий предстает защитником христиан против иудеев. Изгнание из Рима иудеев действительно имело место — о нем пишет Светоний в биографии Клавдия — «иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он изгнал из Рима». Не исключено, что имя Хрест в искаженной латинской транскрипции означало Христос, и что речь шла о конфликтах между иудеями и первыми христианами, оказавшимися в Риме. Об изгнании иудеев Клавдием говорится и в Деяниях апостолов — среди них были переехавшие в Коринф христиане Акила и Прискилла, помогавшие Павлу и даже наставлявшие в вероучении других. Никаких следов защиты христиан в распоряжении Клавдия нет, по-видимому, пострадали и иудеи и иудео-христиане. Это тем более вероятно, что Клавдий во время антииудейских выступлений в Александрии, издал эдикт, защищавший права живших там иудеев. В данном случае в христианском апокрифе как бы происходит своего рода перевертыш — меняется мотив действий Клавдия, который становится защитником христиан и действие его постановления распространяется на всю Италию. При описании действий владык империи наибольшую сложность представляла фигура Нерона, чьи гонения на христиан надолго остались в их памяти; с этими гонениями связаны легенды о гибели Петра и Павла. Но их гибель не могла означать для христиан более поздних поколений хотя бы временное поражение христианства. В латинских Деяниях Павла и примыкающем к ним Мученичестве апостола Павла (Ш в. ) после его проповеди верующими в Христа становятся приближенные Нерона ( в частности, его виночерпий), а затем и стражники, ведущие Павла на казнь. Перед своей гибелью Павел встречается с Нероном, произносит перед ним проповеди. Но Нерон, по наущению дьявола, приказывает казнить его и множество христиан. Здесь можно обратить внимание на введение в сюжет «внешнего врага» — дьявола, который постепенно становится в представлении христиан источником зла, влияющим и на антихристианские действия правителей (характерно, что в более раннем «Мученичестве апостола Андрея» проконсул Эгеат выступает против апостола по собственной инициативе и несет за это наказание). Но если Нерон преследует христиан, то весь народ Рима активно выступает против императора, врываясь во дворец и требуя прекратить гонения. Трудно представить себе, чтобы в реальности преторианцы Нерона, пока еще верные ему (гонения происходили после пожара Рима в 64 г.) подпустили толпу даже близко ко дворцу; вряд ли такое могло вообще когда-либо случиться. Однако христиане хотели верить в торжество новой религии даже во времена правления одного из самых жестоких римских императоров. Казнь Павла свершилась, но воины, совершавшие казнь, уверовали. А апостол сразу же воскресает и является во дворец Нерона. Потрясенный император приказывает выпустить из темницы своих приближенных, принявших христианство, и издает эдикт о прекращении гонений — т. е. даже Нерон признает силу христиан. <…> После признания христианства Константином для христиан, было важно показать, что империя и христианство не противоречат друг другу, что императоры поддерживали с самого начала верующих и наказывали их врагов. Однако политические мотивы кажутся мне недостаточно объясняющими сочувствие христианству со стороны императоров I века, тем более, что существовали донесения Пилата Тиберию и Клавдию, созданные, по-видимому, независимо друг от друга еще до утверждения христианства в империи. Да и сама фантастическая ситуация, в которой происходит «обращение» императоров, указывает на ее происхождение в низах христианского населения под влиянием устных рассказов, фольклора. Все эти рассказы становились частью сакральной истории торжествующего христианства с самого начала его возникновения, наполненной такими чудесами, какие вряд ли могли представить себе авторы писаний Нового завета. Произвольное введение второстепенных исторических лиц в вымышленные события и в другое время действия характерно не только для собственно рассказов об императорах. … В апокрифы могли вводится и лица, чьим прообразом служили реальные люди, но поставленные в фантастические обстоятельства. …Так, в «Мученичестве апостола Павла» действует христианка «знатнейшая римская матрона» Плавтилла… но предание сначала сделало ее христианкой (что было возможно), а затем в народных рассказах она оказалась сподвижницей апостола Павла и свидетельницей чудес, с ним связанных. В апокрифических деяниях своеобразной переработке подвергались даже новозаветные рассказы — это можно проследить, сравнивая рассказ о пребывании Павла и его спутников в Эфесе в канонических Деяниях апостолов и в апокрифических Деяниях апостола Павла. Новозаветные Деяния, написанные по мнению большинства исследователей автором третьего Евангелия, безусловно содержат преувеличения результатов проповедей апостолов, совершенных ими исцелениях. Но в большинстве случаев в них передана достаточно реалистично ситуация, в которой действовали христианские проповедники: автор, спутник апостола Павла, писал для людей, которые многое видели собственными глазами. Для них единственным несравнимым ни с чем чудом было воскресение Иисуса. Они верили в скорое Второе пришествие и собственное спасение и без фантастических рассказов о разрушенных в одно мгновение храмах и ставших христианами наместниках. Достаточно вспомнить описание реакции афинян на проповедь Павла в Афинах: по словам автора Деяний «услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: послушаем тебя в другое время». Из последовавших за Павлом афинян названы только два имени — Дионисий Ареопагит (т.е. член Ареопага) и женщина по имени Дамарь (имя негреческое, вероятно, переселенка). В Эфесе, как это изложено в 19 главе Деяний апостолов, против Павла и его спутников выступили серебряных дел мастера, делавшие модели знаменитого храма Артемиды, своего рода сувениры. Существование мастеров по серебру в этом городе засвидетельствовано различными надписями. Ремесленники схватили двух спутников Павла, обвиняя их в том, что их поучения против изображений («делаемые руками человеческими не суть боги») могут привести к упадку их ремесло и умаляют значение храма Артемиды. Толпа, подстрекаемая руководителями ремесленников, ворвалась в театр. Выбор места был неслучаен — театры в римское время были не только местом представлений, в нем могли проходить и собрания, созванные, разумеется, властями. В данном же случае сборище было стихийным, чего римские правители опасались и могли расценить его как мятеж. Поэтому перед толпой выступил магистрат (грамматевс — т. е. секретарь городского Совета). Он попытался усмирить толпу, говоря, что схваченные люди ни храма не обокрали, ни богиню не хулили, а если у ремесленников есть жалобы, то они могут обратиться в суд или к проконсулу. Грамматевс распустил собрание, заявив, что эфесцы могут быть обвиненными в мятеже, «так как нет никакой причины, которою мы могли бы оправдать такое сборище». Ситуация не просто достоверна, но типична: жители греческих полисов еще ощущали себя народом, который вправе выступать по любому поводу, а римляне стремились этот народ, который по существу становился толпой, подчинить жесткому порядку. Что же касается Павла, то в Деяниях апостолов говорится: сам он в собрании не был, хотя и хотел туда пойти, но его не пустили ученики и друзья. Но для христиан Поздней античности этот рассказ бы был недостаточно впечатляющ. Вот как пребывание апостола в Эфесе описано в апокрифических Деяниях Павла: к нему примкнуло множество народа, однако потом начался ропот — «Человек этот богов сокрушает и говорит: Еще узрите вы, как сгорят они все в огне». Толпа схватила Павла и потащила его в театр, где перед ними явился не городской чиновник, а сам проконсул. Павел, как это было принято в подобных сочинениях, произносит проповедь, а проконсул предлагает решить его участь толпе (скрытая параллель с описанием в канонических Евангелиях действий Пилата по отношению к Иисусу). Собравшиеся требуют отдать его зверям, и наместник приказывает бичевать Павла и бросить на арену амфитеатра на растерзание зверям. Но так как на самом деле Павел после Эфеса остался жив (прочная традиция связывала его гибель с преследованиями Нерона), то на арене происходит нечто совершенно фантастическое. Согласно рассказу апокрифа о событиях, предшествующих пребыванию Павла в Эфесе, апостол встретил огромного льва, который припал к ногам Павла и человеческим голосом попросил окрестить его, что Павел и сделал. Лев после крещения ушел в пустыню. Именно этот лев оказался на арене, заговорил с ним и, конечно, не тронул Павла. Общего с каноническим повествованием в этом апокрифе только место действия — Эфес и толпа в театре. Однако в конструировании апокрифического рассказа была своя внутренняя логика — замена грамматевса на наместника провинции не только усиливала значимость происходящего, но и придавала для современников элемент достоверности, так как приговорить к смертной казни городской магистрат не мог. Впрочем, вряд ли это мог сделать и проконсул в I веке по отношению к римскому гражданину, каким был Павел (недаром его из Палестины отправили в Рим для судебного разбирательства). Но в 212 г. все свободные жители империи получили права римского гражданства и ко времени составления Деяний Павла забыли о правовых нормах, действовавших в начале нашей эры. Они переносили практику своего времени на прошлое: один из типичных приемов так называемой «модернизации», возможно, неосознанной, но помогающий конструированию якобы подлинной истории. Интересно отметить, что рассказ о выступлении Павла на арене имеет своеобразное основание в писаниях Нового завета. Дело в том, что в I Послании к коринфянам Павел упоминает, что он «звероборствовал» в Эфесе. Выражение «звери» в традиционной полемической риторике того времени употреблялось по отношению к оппонентам. Поскольку аналогичное выражение применяет Игнатий в I веке в Послании к римлянам, говоря о своих стражах, не исключено, что Павла также могли схватить, и он называет зверьми тех, кто это сделал, хотя никаких прямых данных об его аресте в Эфесе нет. Во всяком случае, и согласно Деяниям апостолов, и его собственным посланиям Павел спокойно отправился из Эфеса в Македонию. Но употребленное им выражение пробудило народную фантазию, тем более, что во время гонений III века христиан действительно бросали на растерзание львам, чего не засвидетельствовано в провинциях I века, и не могло быть применено к римскому гражданину. Римских граждан в провинциях было не так много, дарование прав гражданства их жителям происходило индивидуально, особыми постановлениями (Павел, уроженец малоазийского города Тарса, возможно, был гражданином потому, что он и его семья делали палатки для армии). Создатели же апокрифических Деяний ввели новый эпизод по принципу заполнения лакун, драматический и чудесный, и в то же время как бы достоверный, опирающийся на слова самого Павла. Этот эпизод должен был возвеличить почитаемого апостола и усилить воздействие рассказа на новообращенных язычников, воспитанных на сказках и легендах. В апокрифических рассказах о Петре фантастическим содержанием оказалась наполнена история борьбы христиан ортодоксального направления с Симоном магом. Об этом действительно существовавшем человеке рассказывается в канонических Деяниях апостолов: он был магом, чародеем, выдавал себя «за кого-то великого», потом принял крещение, но был отвергнут апостолами, так как попросил их за деньги открыть ему тайну своего дара передачи через возложение рук Духа Святого. Впоследствии Симон вместе со спутницей Еленой основал собственную секту симониан, близкую гностицизму. О Симоне и его учении сообщают многие христианские писатели: Ириней, Ипполит, Тертуллиан. Но для массы христиан теологической полемики было недостаточно. В различных легендах, отраженных в Деяниях Петра, в псевдо-Клементинах, (произведении, приписываемом главе римских христиан I века Клименту) повествуется о противостоянии Петра и Симона в палестинской Кесарии и Риме. В столице Петр творит чудеса и в этом побеждает Симона — воскрешает сенатора, что Симон не смог сделать; мага, поднятого демонами на воздух, сбрасывает на землю. Эти рассказы были широко распространены уже во II веке, а затем дополнялись все новыми и новыми эпизодами уже никак не связанными с реальной историей, например, в них тоже действует говорящие животные — свирепый пес, который вместо нападения на Петра, обличает Симона. Итак, даже на приведенных примерах можно проследить, в каком направлении шли в христианской среде переосмысление и дальнейшая мифологизация политической и даже священной истории. Первоначальная устная традиция постепенно заполняла лакуны этой истории, прибавляя новые подробности применительно к потребностям аудитории. Рассказчики, вероятно, искренно верили в то, что они говорили, припоминая одни события и искажая другие, ибо память не столько воспроизводит, сколько реконструирует события. По мнению психологов, эмоции помогают запоминать одно и подавлять память о другом. Закрепляются в памяти не только действительно совершившиеся события, но и вымышленные: простое неоднократное повторение ложного утверждения приводит к тому, что люди начинают этому верить. Факт становится фикцией, а фикция воспринимается как факт. <…> Таким образом, дополнения канона уже становятся не просто апокрифами, но постепенно начинают входить «священное предание» — если не для церковных соборов, то для основной массы верующих. Более сложной оказалось для Евсевия, который все-таки назвал свое произведение историей, ситуация с императорами-покровителями христианства. В связи с рассказом о донесении Пилата Тиберию и реакцией императора на него, историк Церкви, современник Константина, прославлявший последнего за признание христианства, должен был объяснить, почему Тиберий сам не принял христианство и не распространил новую веру по империи. Евсевий доверял популярному преданию, но был достаточно образован в традициях античной логики, чтобы не осознать подобное противоречие. И он выдвинул свою версию: Тиберий сообщил сенату о донесении Пилата и предложил признать нового Бога Иисуса. Но Сенат отверг это предложение под тем предлогом, что он не занимался предварительным его рассмотрением. По «издревле укоренившемуся закону никто не мог быть признанным у римлян богом иначе как по согласованию и декрету Сената». Невозможно представить себе, чтобы Сенат в правление Тиберия решился хоть в чем-нибудь противоречить императору, проводившему массовые преследования по закону «об оскорблении величия» и насаждавшему культ Августа. Впрочем, для историков-христиан это не имело значения, хотя не только сирийские, но и римские архивы могли быть в IV веке в их распоряжении, не говоря уж о произведениях языческих историков. Игнорирование реальных событий Евсевием тем более показательно, что данное им объяснение имело некоторое основание в древних римских традициях: еще во времена республики существовала особая коллегия децимвиров, надзиравшая за религиозными делами. Сенат мог запретить (также во времена республики) отправление каких-либо культов, но в период империи это делал император, хотя и безуспешно: почитатели Исиды и иудаисты существовали в Риме и после решения Тиберия о высылки их из Рима. Население столицы, не говоря уже обо всей империи, было настолько этнически пестрым, что уследить за множеством культов было практически невозможно. Введение новых культов было также делом императора, хотя и достаточно редким: так, Адриан приказал обожествить своего погибшего любимца Антиноя, но, по-видимому, широкого распространения он не получил. Единственным общегосударственным культом был культ императора, который продолжал существовать и при Константине. Объяснение Евсевия показывает тот процесс переработки исторических событий (со своеобразной опорой на выборочные реальные факты), который, начавшись на низовом уровне, перешел в творчество и образованных христиан. Разумеется, конструирование исторических событий на основе сказаний и легенд было свойственно античному историописанию, но это прежде всего касалось древнейших дописьменных периодов, как это можно видеть у Ливия в рассказах о правлении первых царей. На рубеже эр в Риме сложилась рационалистическая историография (а в Греции еще раньше), опиравшаяся на множество сочинений писателей и письменных документов, как архивных так и выбитых на выставленных напоказ надписей на камне. Зачастую историки тенденциозно интерпретировали сообщения источников, но редко домысливали. У некоторых римских историков можно встретить легенды о чудесах и предсказаниях. Однако эти легенды, как правило, связаны с политической ситуацией и не меняют реальных событий, а как бы придают им дополнительный авторитет и развлекают читателей. Так, Светоний в биографии Августа со ссылкой на произведение египетского писателя Асклепиада «Рассуждение о богах» рассказывает легенду о том, что мать Августа, переночевав в храме Аполлона, зачала сына от бога, явившегося к ней в виде змея (явная параллель с легендами об Александре Македонском, матери которого также явился Зевс в образе змея). Однако эта легенда никак не повлияла на изложение Светонием основных эпизодов деятельности императора, достоверность чего может быть проверена параллельными источниками. Она приведена в последних главах биографии Августа, и вряд ли сам историк в нее верил (недаром он указал источник, откуда взял эту легенду). Рассказы апокрифов и основанные на них утверждения таких христианских писателей как Евсевий принципиально отличались от сочинений Тацита или Светония. Они не подкрепляли политическую установку, их не интересовала действительность; они создавали собственную «сакральную историю» Постепенно подобные рассказы стали восприниматься как непреложные факты: так в конце IV века Иоанн Златоуст в Беседе на Второе послание к Тимофею передает как свершившийся факт свидание Павла с Нероном и обращение апостолом в христианство виночерпия императора. А в следующем веке Макарий Великий говорит о чуде, упомянутом в Мученичестве апостола Павла: после отсечения головы вместо крови из шеи его полилось молоко. Характерно, что образы правителей, принявших христианства, появляются и в апокрифах, сюжетно не связанных с римскими императорами. Одно из ранних подобных преданий (II-III вв. ) связано с образом реального правителя Осроэны Авгара, который действует в Учении Аддая и принимает христианство непосредственно после переданных ему слов (письма) Иисуса. В других рассказах правители становятся христианами уже после того, как по их приказанию казнили апостолов: они не терпят наказания, как Эгеат в Мученичестве апостола Андрея, а под влиянием чуда, явления воскресшего мученика раскаиваются и просят окрестить их. В Деяниях Фомы, по мнению Мещерской созданных первоначально на сирийском языке, а затем переведенных на греческий, индийский царь Масдай (имя вымышленное) становится христианином уже после гибели апостола, когда прах, взятый из могилы Фомы, совершил чудо: излечил его сына, одержимого демоном. А в греческих Деяниях апостола Матфея (или Матфии) — царь страны людоедов (!), преследовавший апостола (тоже по наущению демона), увидел как погибший Матфей стоял на воде, его с двух сторон поддерживали два светлых юноши, море стало прозрачным и из него поднялся крест. Тогда царь бросился к епископам, умоляя простить его и дать ему возможность принять христианство. Явившийся царю апостол велел взять ему свое имя — Матфей. Затем царь издал указ об уничтожении всех идолов, а в конце жизни даже стал епископом. Этот апокриф уже выходит за рамки не только истории, но и квазиистории. Если о пребывании Фомы в Индии существовала стойкая христианская традиция, то о Матфее (или преемнике Иуды-предателя Матфии) никакой вне этих деяний давней традиции не было. Поэтому народная фантазия отправила его в сказочную страну, заимствовав и расцветив чудеса из других сказаний. Интересно, что чудеса перекликаются с тем, что рассказывалось о Христе: в апокрифическом Евангелии Петра воскресшего Иисуса выводят тоже два юноши, а за ними шествует крест; стояние на воде также восходит к хождению по воде Иисуса. В Деяниях Фомы последний выступает как мистический близнец Иисуса — что основано на его прозвище — «Фома, иначе называемый Близнец». В частности, там рассказывается, как Фома воскресил женщину-блудницу, извлек ее из ада, и воскресшая отождествляет его с Иисусом. Такое сближение приводит к тому, почитаемые апостолы как бы возвышаются до Иисуса, приобретая не меньшую чудодейственную силу: то, что не понравилось христианам в Деяниях Павла и Феклы, постепенно становится нормой. Подобные рассказы создавались на протяжении поздней античности (V-VI вв. ). В них обязательно действовали демонические силы: как пишет П. Браун, демоны были «звездами» религиозной драмы поздней античности. Преследования христиан царями также объяснялись не внутренними их побуждениями, а влиянием на них злых сил. Столь обязательное обращение правителей в христианство представляется мне показателем того, что среди народных масс, давно превратившихся из граждан в подданных, складывалась своего рода «царистская» идеология: в их представлении сначала императоры, а потом любой владыка в конце концов должен был стать защитником веры, однако происходило это с помощью святого апостола, освещающего власть христианского государя. Переосмысление и «изменение» истории в массовой апокрифической литературе прошло на протяжении первых веков существования новой религии длительный путь. В поздних сказаниях уже нет опоры на какие-либо действительные или хотя бы правдоподобные события. История по существу стала мифом о мгновенных обращениях народа и правителей в христианство и непрерывных самых невероятных чудесах, совершаемых апостолами и святыми. В дальнейшем менялось даже место рождения и деятельности самых почитаемых святых — так, императрицу Елену, происходившую из Малой Азии, в ее жизнеописании сделали уроженкой Трира. В средние века рассказы о чудесах, подобные тем, что фигурировали в апокрифах Поздней античности, становятся неотъемлемой частью западной и восточной житийной литературы… Из статьи М. А. Бойцова «Вперед, к Геродоту!» Настоящая статья опубликована во втором выпуске альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории» (М., 1999). Материалы первой дискуссии по этой публикации напечатаны там же, второй ? в сборнике «Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого». Обсуждению статьи был также посвящен выпуск передачи «Разница во времени» радиостанции «Свобода». Отец европейской истории Геродот из Галикарнаса написал свою Историю, чтобы «прошедшие события с течением времени не пришли в забвение», а «великие и достойные удивления деяния как эллинов, так и варваров» не остались в безвестности. Геродот из Галикарнаса не собирался на основании «собранных и записанных им сведений» строить догадки о том, как будут в грядущем складываться, скажем, отношения между эллинами и варварами. Отцу истории не могло, наверное, и в голову прийти, что едва ли не главным профессиональным заклинанием грядущих продолжателей его стараний будет формула о том, что история призвана «в конечном счете»… предсказывать будущее. Что в античной ойкумене, что на ее варварской периферии процветала настоящая «индустрия предвидения» ? тот же самый Геродот (наряду с десятками других авторов) подробно о ней рассказывает. Заглядывание в будущее, сверка по нему своих поступков ? дело у древних едва ли не повседневное. Лишь христианство смогло несколько приглушить эту практику, свести ее как бы до уровня полулегальной. Способов узнавать будущее и у современников Геродота, и у ряда поколений их потомков было предостаточно: лукавыми гекзаметрами оракулов начиная, бараньими лопатками или наспех обструганными буковыми палочками заканчивая. История в числе этих средств, однако, не значилась… <…> На самом деле отношение между прошедшим и будущим складывается в сознании историка, похоже, по принципу совершенно противоположному. Первичным оказывается как раз образ желанного (или реже нежеланного) будущего, и историк, руководствуясь этим образом, объясняет прошлое как часть пути, уже пройденного к заранее известной (по крайней мере в существенных чертах) цели. Со времен поздней античности будущее предстает историку-европейцу как нечто в принципе лучшее, нежели настоящее. Христианская эсхатология обещает, конечно же, леденящую кровь вселенскую катастрофу, но ведь в ходе нее раз и навсегда восторжествует высшая справедливость. Христианский образ будущего весьма целостен, хоть и оставляет немало пищи для размышлений по интересным, но все же сравнительно частным поводам ? как, например, воскреснут в день Страшного Суда из мертвых недоноски, калеки и уроды ? со всеми ли своими физическими недостатками, или, возможно, в телах, полностью очищенных от недугов? Ясность грядущего ? залог ясности прошедшего ? не оттого ли христианская картина истории, созданная еще Евсеевием, Иеронимом и Орозием, оказалась наиболее развитой, стройной и, что особенно интересно, самой долгоживущей изо всех, возникавших до сих пор в кругу европейских культур. В сильно отрезвленной религиозными войнами XVI-XVII вв. , исполненной скепсиса, рационализма и тяги к просвещению умов Европе образ «практически значимого» будущего постепенно изменился: он стал куда менее пугающим, но зато более дряблым и размытым, утратил былую апокалиптическую определенность и былой драматизм. Изрядно секуляризированного европейца ждали теперь царства Божии на земле ? ему обещали создание человеческих сообществ, вполне земных, но чуть-чуть божественных, потому что они будут организованы по законам разума, способного осознать самые заветные истины бытия. А раз так, то есть все основания для надежды обрести кое-что от высшей справедливости и в этих посюсторонних царствах. Для одних, вдохновлявшихся идеей грядущего всемирного братства, эти желанные сообщества обретали облик союза народов. Для других, уповавших на раскрытие мощи собственного «народного духа», мечта облекалась, напротив, в образ суверенного национального государства (с мудрым государем или же еще более мудрым парламентом во главе), вводящего общеполезные социальные новшества. И, наконец, для третьих ? особо разочарованных, решительных и нетерпеливых ? будущее общество представлялось переделанным в соответствии с наиболее радикальными «требованиями разума» ? например, на основе отмены частной собственности. Всеобщая тяга к социальной инженерии склоняла к тому, чтобы историю «превращать в науку», выводя из ее хода те самые закономерности, постижение которых и обеспечит кратчайшие пути к манящей впереди цели. Прошлое оказывалось частью ведущей вверх лестницы, по которой мы успели уже пройти, а будущее ? ее следующей ступенькой. Пик «превращения в науку» история пережила в XIX в. , когда европейцы относились к своему будущему едва ли не с наибольшим за все время существования собственной цивилизации оптимизмом… В XX в. общественная роль истории изменилась. Две мировые войны, создание полубожественным человеческим разумом все более эффективного оружия и невероятные социальные эксперименты, развернувшиеся с мощью, доступной только исключительному по своей силе государству «современного типа», повлияли на сознание европейцев и их представления о будущем самым серьезным образом. Прежде всего оказалась скомпрометирована стержневая идея прогресса… Едва ли не главное качество воображаемого («предвидимого») будущего ? это преодоление в нем страхов, пугающих нас в настоящем. Когда характер угрожающих нашему существованию опасностей более или менее ясен (или хотя бы кажется таковым), то более или менее определен и облик нашего будущего (а значит, и прошлого). Для историков, живших в XVIII-XIX веках, характер главных угроз их мироустроению был понятен ? они исходили, во-первых, извне ? от «чужих» ? то есть, «враждебных» религий, конфессий, наций, государств, а во-вторых, изнутри ? от неразрешенных социальных проблем в их собственных обществах. Раз так, то историки достаточно определенно представляли себе «желаемое будущее» и соответственно «под него» задавали параметры изображаемой картине прошлого. Общая картина будущего ? это одно из средств сплочения обществ перед грозящей им опасностью, но если такая угроза отсутствует или ясно не выражена, то как может сложиться образ, призванный от нее психологически защитить? Изюминка истории в Европе (по крайней мере, в постримской Европе) состояла всегда в том, что она была знанием не просто описательным, но сотерическим. История показывала обществу дорогу к спасению. Не надо доказывать, что без обещания грядущего спасения вся священная история превращается в довольно унылое перечисление патриархов, царей и пророков. Но ведь без идеи выполнения в будущем, по возможности скором, некоей предуготованной и наверняка спасительной, причем, наверное, даже и для всего человечества миссии своего народа, и классическая «национальная» история в духе XIX в. также, утрачивая смысл, рассыпается на «фактологические» осколки. Без образа так или иначе понятого справедливого общества, избавляющего от нравственного несовершенства и всяких несправедливостей сегодняшнего дня, и ждущего уже за следующим поворотом, утрачивают смысл отчасти и гегелевское самопознание духа, и уж наверняка марксовы социально-экономические формации. От чего же должна спасать европейца история сегодня? Чем дальше тем больше складывается впечатление, что столь желанный многими синтез в истории на самом деле недостижим по причинам принципиального свойства, а тоска по нему, время от времени обуревающая европейского или американского историка ? ни что иное как проявление ностальгии по Девятнадцатому веку, то есть, по той былой, увы, уже успевшей изрядно поблекнуть, оптимистической вере в разумность, осмысленность. а главное ? осмысляемость человеческим разумом ? мира. Ностальгия и тоска ? вполне естественная и здоровая реакция на неуютность собственного положения. Здоровое чувство самосохранения вообще оказалось у историков, похоже, сильнее развито, чем у художников, философов или писателей… Историк же в своей работе и так поневоле привык иметь дело лишь с мелкими фрагментами давно исчезнувшей жизни. Недостаток или даже отсутствие всеобщих связей в знакомом ему кусочке бытия ? дело не исключительное, а повседневное. Черный человек не является историку в отдельные минуты мрачного озарения, как поэту, ? он все время стоит у него за плечом. Ностальгия по синтезу, ностальгия по XIX в. ? это выражение неудовлетворенности нынешним состоянием исторического знания, раздражающей слабостью его способностей к обобщениям. На то, что нынешняя история европейского образца ? в осколках, жаловались и жалуются постоянно, призывая срочно приниматься за их склеивание. Но почему-то мало кому хватает смелости признать очевидное ? это и есть сейчас, наверное, самое естественное и, более того, единственно возможное состояние истории. Все привыкли говорить о «кризисе» в историографии XX в. , сравнивая ее тем самым сознательно или подсознательно со взятой за образец «некризисной» историографией века XIX… <…> Постольку, поскольку науке положено выявлять и использовать некие общие законы, и чуть менее общие закономерности (а это допущение при всей своей грубости, кажется, более или менее признается), истории как науки на самом деле больше нет. Смертельный удар ей нанесли еще неокантианцы, а вся последующая критика, в том числе и со стороны постмодернистов, — лишь мало что добавляющее по существу вопроса приплясывание на ее костях… БиблиографияБойцов М. А. Вперед, к Геродоту!/Казус. Индивидуальное и уникальное в истории: Альманах. М., 1999. Вып. 2. Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого: Сб. статей. М., 1999. Мещерская Е. Апокрифические деяния апостолов. М., 1997. Повесть о новгородском белом клобуке/Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI в. М., 1985. Свенцицкая И. С. «Сакральная история» в христианских апокрифах II-V вв. (В печати.) Скогорев А. П. Арабское Евангелие детства/Апокрифические деяния апостолов. СПб., 2000. Bauer M. Anfange der Christenzeit. Berlin, 1969. Das Constitutum Constantini: Konstantinische Schenkung. Hannover, 1968. Flier M. S. The Iconography of Royal Procession: Ivan the Terrible and Muscovite Palm Sunday Ritual/European Monarchy/Ed. by H. Duchhardt, R. Jackson, D.Sturdy. Stuttgart, 1992. Hengel M. Acts and the History of Earliest Cristianity. London, 1979. Laehr G. Die Konstantinische Schenkung in der abendländischen Literatur des Mittelalters. Berlin, 1926. Lhotsky A. Privilegium Maius. Die Geschichte einer Urkunde. Wien, 1957. Ostrogorsky G. Byzanz und die Welt der Slawen. Darmsatdt, 1974.
|
Интеллект-видео. 2010. RSS RSS
|

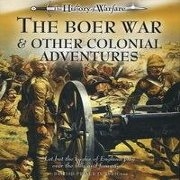 Англо-бурская война. Колониальные войны
Англо-бурская война. Колониальные войны Гонка за супербомбой
Гонка за супербомбой Трагические события в США
Трагические события в США